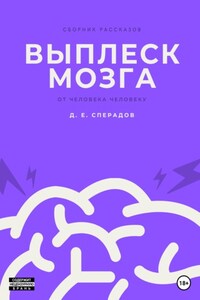ПРЕДЫСТОРИЯ
Пошлая, беглая и натуралистичная, как часто бывает у российских и китайских авторов
Вон туда, в темный проулок, в ЦНТИ ВНИИТАГ ходили на работу Т.В.Левицкая и М.Г.Горячев.
Действие происходит в Москве, в Измайлове. Я бы написал: в Первомайском районе, но, во-первых, на дух не переношу всего, что связано с коммунистической доктриной, которая наоставляла-таки следов в топонимике столицы, а во-вторых, опасаюсь, что район когда-либо почему-нибудь переименуют. А мне хотелось бы иметь дело с вечным и устойчивым; о нем и речь, о вечном. О людях, о которых в середине оголтелого ХХI века и помину не будет. А четвертого июня 1990 года они еще существуют.
Я только что с легким сердцем вышел на летнюю мостовую из стеклянной двери здания, где записывают акты гражданского состояния (не употребляю ублюдочного слова «загс» по той же причине). С легким сердцем потому, что получил, наконец, там свидетельство о расторжении брака, и потому еще, что день был погожий, тихий, и даже казалось, что из пыльного, ветхого, как траченная молью зеленая тряпица, Измайловского парка повевает прохладой. Туда я и хотел было двинуться, чтобы облегченную душу еще более умиротворить, но через пустырь по тропам разбредались, как оморенные муравьи, обрюзглые и мешковатые московские старики в сопровождении придурковатых собак и только что опроставшиеся молодые бабы с детенышами в колясках, – и гулять расхотелось: я, который когда-то исходил сотни верст девственной тайги, среди этих облупленных тополей и кленов чувствовал себя, чаще всего, полным идиотом. «Любимое место отдыха москвичей». Разумеется, людям, которые никогда и не просыпались для жизни, отчего бы не отдохнуть среди этих унылых раскоряк без подлеска. Но уже и то было хорошо, что на ногах красовались новые мягкие кроссовки, сквозь которые чувствовалась плоть асфальта, а легкая рубашка с распахнутым воротом не стесняла движений. С праздным и праздничным ощущением легкости в теле и свободы на душе я двинулся по Девятой Парковой улице с безотчетным намерением насладиться внутри себя покоем и бездеятельностью. Мне было подлинно хорошо; и хотя в квартирке гостиничного типа, которую я только на днях получил после развода и размена, было не повернуться от мебели и коробок с книгами, туда я не торопился, чтобы обустроиться: эти предстоящие хлопоты тоже были приятными. Я даже, чего сроду не случалось в прежней, бессмысленной жизни, с интересом свободного и счастливого человека смотрел на встречных женщин, которые об эту пору, в июне, если не в толстых вязаных кофтах и плащах на случай возможного дождя, а в легких платьях, бывают привлекательны. Чего-чего, а самодовольства и любопытства мне не хватает; человек я высокий и лицом не вульгарен, но сутул, потому, должно быть, что юность пробродяжил в лесу в поисках грибов, прожил в избах с низкими притолоками и в пессимистических думах.
Минуя «Театр мимики и жеста», зашвырнув окурок на его величественный и громоздкий подиум, дворами я вышел на Седьмую Парковую, и цель неспешной прогулки определилась: к Тимуру Васильевичу.
Уже в то время, когда стало понемногу ясно, что развод неизбежен, года два тому назад, я поймал себя на наблюдении, что круг самых близких знакомых, исповедниц моей неврастенической души, составляют преимущественно бойкие женщины несколькими годами старше. Тимур Васильевич – Тамара Васильевна Левицкая – принадлежала к их числу. Совсем молоденькие или сверстницы мне не нравились, потому что опыт их душевной и чувственной жизни был ничтожен и обычно обратно пропорционален гонору, а частая для них воинственная идеология и денежно-вещевые интересы после нескольких встреч отвращали окончательно. Геронтофилией тут не пахнет, но когда женщина утрачивает молодость и начинает уставать, она подчас становится милым чутким мудрым существом, которое способно согреть, как лучи закатного солнца. Тебе, молодому, она слегка завидует, внимательна, может быть полезна, если ты честолюбив, а она кое-чего добилась за эти годы, и обычно щедра на заботу и дары, как плодоносная осень. Так что, подобно мопассановскому или стендалевскому герою, ты можешь на нее опереться, особенно если сирота и недополучил материнской ласки; когда же тебя ценят и тобою дорожат, предоставляя при этом свободу действий, – что может быть приятнее и не обременительнее? Ясно, что я шел к ней с определенной, хотя и инстинктивной целью, – погреться, исповедаться, порисоваться в новом качестве свободного, не обремененного человека. Счастливый, точно весенний жаворонок над солнечной пашней, я хотел, пользуясь давнишней ее симпатией, рассказать, какое это редкостное для цивилизованного человека удовольствие – свобода: от жены, от необходимости работать, от общества злых, удрученных столичных жителей, никогда не беседовавших со звездами перед лицом ночной вселенной. Я надеялся, что она поймет и разделит мою радость. Вообще, произвести впечатление – наипервейшее для меня удовольствие. К тому же, я был именно что в ударе: внутренне подтянутый, превосходно себя чувствовал, себе нравился, даже перед прохожими рисовался, если можно назвать рисовкой особенную ауру, окружающую довольного, жизнерадостного человека, который надеется получить еще одну порцию обожания: пчелка за сбором меда, птичка, клюющая по зернышку. По-моему, только упоенный социальным переустройством кретин мог выдумать унылую формулу: свобода – это познанная необходимость. Необходимость у нас только одна – умереть, к ней нас отодвигает время, а все остальное, в том числе такие важные вещи, как жена, работа, страна, – следствие свободного выбора. Другое дело, что за несвободу, за зависимость, за убитое время общество платит человеку – почетом, деньгами, кому чем; я же, не втянутый в общественный водоворот, упирающийся анархический бездельник, в свои тридцать пять был гол и безвестен, и это тоже была плата: беседуй со звездами, раз ты такой отщепенец, но воздаяний от нас не жди.
Но это обстоятельство четвертого июня 1990 года меня не беспокоило.
А познакомился я с Тамарой Васильевной не в лучшую для себя пору: родился ребенок, и мечтатель Емеля вынужден был искать работу, чтобы содержать семью. Так что вряд ли в то время на меня оборачивались посмотреть: то же серое, хмурое лицо, что и у сотен тысяч, те же тусклые глаза, та же усредненность поступков и помыслов, те же калькуляторские подсчеты в пасмурной голове: как выкроить на кружку пива из рубля, выданного на обед. Жил как если бы спал, точно муха в паутине, муха, которую убаюкивает крадущийся паук. Это состояние духовной прижизненной смерти было всегда мучительно. Пробегая как-то раз в поисках работы по Седьмой Парковой, я увидел в зарешеченном окне первого этажа табличку «требуется корректор». Править ошибки в печатном тексте я не то чтобы любил, но какое-то смутное, тягомотное удовлетворение эта работа, уже и прежде знакомая, доставляла: помнится, в далеком деревенском детстве, когда случалось завшиветь, почти с тем же удовольствием, как впоследствии опечатки, вычесывал густым частым гребнем и выискивал на разостланном на столе газетном листе вшей: обнаружу нескольких и, не позволяя расползтись, кончиком гребня всех перещелкаю, довольный мягким хрустом насекомой плоти. Я перечитал и перелопатил столько книг, что почти все слова, даже терминологические и специальные, были знакомы. Однако японское прилежание и тенденции к упорядочиванию овладевали мною ненадолго, потому что, как русский, я все же был больше склонен к анархическому бунту и богатырскому размаху, по крайней мере, в мыслях. Деваться мне в ту пору было некуда, и я зашел в это учреждение, обозначенное сложной аббревиатурой ВНИИТАГ: Всесоюзный научно-исследовательский институт теории архитектуры и градостроительства. Могу назвать и точный адрес: тотчас за стоматологической поликлиникой, в глубине двора, дом 27А. Когда от бельмастого, щуплого начальника РИО (редакционно-издательского отдела) узнал, что работать предстоит каждый день с 9 до 18, за исключением выходных и праздников, то изобразил на лице живейшее расположение к работе, потому что уже устал слоняться в ее поисках, рассудком же определил себе срок в три месяца, до мая, когда зацветет черемуха и меня повлечет странствовать в сельскую местность (на самом же деле я выдержал всего две недели). Как бы там ни было, сделка состоялась, семейные бури, вызванные безденежьем, временно утихли, и я водворился в небольшом кабинете на первом этаже: письменный стол, шкаф для бумаг, на стене – прошлогодний календарь с портретом певца Валерия Леонтьева, на подоконнике – грубый коричневый горшок с лопоухим, колючим кактусом, – вот и все убранство.