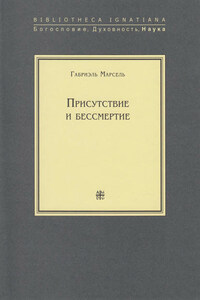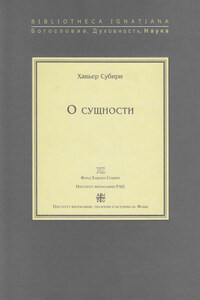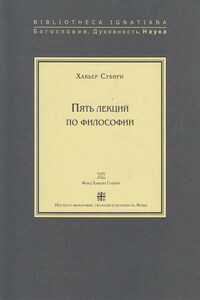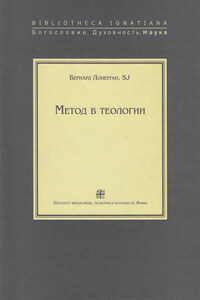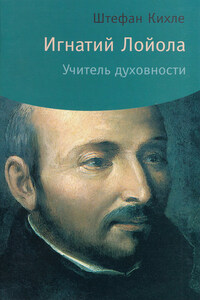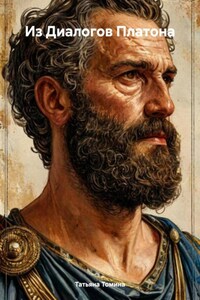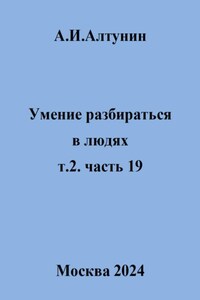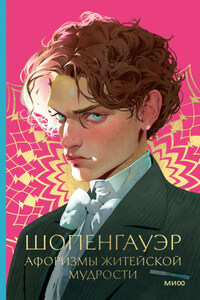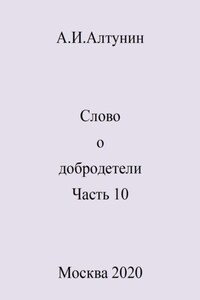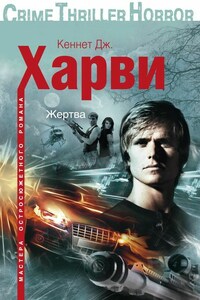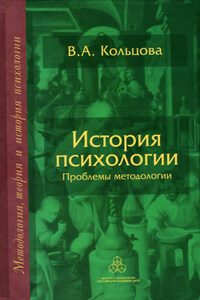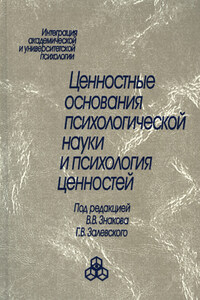«Есть только Бог и мы. Больше нет ничего. Бог и человек относятся как Тайна и внимание. А все прочее – тень и сон»[1]. Эти слова Олега Поля (1899–1930), талантливого мыслителя, принявшего мученическую смерть свидетеля Истины, в полной мере могут быть отнесены и к христианскому экзистенциализму Габриэля Марселя (1889–1973). Да, возможно французский мыслитель не смог бы под ними подписаться в силу радикальной прямоты выражения в них сути христианского мировоззрения. Однако невозможно, чтобы они не прозвучали резонансом единомыслия в его душе. Вдумаемся в эти простые слова и соотнесем их с философскими взглядами французского мыслителя. Божественная Личность и мы, являющиеся личностями лишь в меру нашего уподобления Ей, – вот основа и онтологии и антропологии Марселя. Личное бытие – тайна. Недаром самое развернутое представление взглядов Марселя мы находим в его гиффордских лекциях, получивших название «Мистерия бытия»[2]. Здесь «мистерия» может быть передана и как тайна и как таинство. Да, именно в тайне-таинстве человек соотносится с Богом, а также и во внимании, которое у Марселя называется «сосредоточенностью» (recueillement). Но можно говорить в этой связи и о внимании. Ведь недаром люди, самые близкие к Марселю, как Жанна Парэн-Виаль, выразительно рисуют образ своего друга и мэтра как «бодрствующего и пробуждающего» философа[3], пробуждающего, конечно же, прежде всего именно внимание, способность открываться к тому, что есть. Здесь мы стоим на пороге как хайдеггеровских реминесценций (мыслитель как «пастух бытия»), так и платоновских (образ пробудителя, конечно же, напоминает нам о ситуации «пещеры», когда момент поворота взгляда приводит человеческий ум из состояния сну подобной спячки, когда мы видим лишь пустые тени настоящих вещей, в состояние ясного видения истинного бытия). При этом, несомненно, аллюзия на Платона является в данном случае более важной и весомой.
Наконец, обратим внимание на слово «мы» – молодой русский мыслитель неслучайно его произнес в этом контексте. Перед Богом действительно стоим мы, а не одинокая индивидуальная монада «Я». И нет темы более близкой французскому мыслителю, чем открывающаяся в этом местоимении тема «интерсубъективности» как позитивной сущности подлинного бытия нашей самости.
Почему одна из последних книг французского философа называется «Присутствие и бессмертие» (1959)? Как он связывает эти понятия? Как он их понимает? Первый «ярус» контекстуального поля для их понимания нами уже дан. Остается только вникнуть, самым однако сжатым образом, в эти нами еще не произносившиеся слова – «присутствие» (présence) и «бессмертие» (immortalité). Экзистенциально и биографически начать их пояснение нужно со слова «бессмертие». Гуляя со своей тетей-мачехой в парижском парке Монсо, маленький Габриэль однажды спросил у нее: «А где находятся умершие?» Его тетя, воспитанная в протестантско-либеральном духе, но исповедующая агностицизм, ответила малышу, что этого нам знать не дано. Тогда мальчик с какой-то пророчески прозвучавшей силой сказал: «Когда я вырасту, я обязательно узнаю об этом». Ему было около четырех лет, когда он потерял свою мать. Эту утрату он всегда признавал не только самым жизненно важным для него событием, но и самым значимым фактом в его биографии мыслителя и драматурга. Возникшая в нем «тайная полярность между видимым и невидимым» ведет свое происхождение оттуда, с этих детских лет. И надо прямо сказать, что Габриэль Марсель уже тогда занял сторону Невидимого в его споре с Видимым. Конечно, это чисто экзистенциальное решение еще не имело тогда никаких философских контуров, которые стали возникать сравнительно поздно. Жизнь складывалась у воспитанника парижского лицея, а потом студента философского факультета Сорбонны так, что он стал не столько книжником-домоседом, как того требовали от него его близкие и французская педагогическая машина, сколько страстным путешественником, любителем дальних прогулок по неведомым интересным местам, тем, кого во Франции называют radonneur, то есть неутомимым ходоком, или, как бы сейчас сказали, хайкером-фанатом. Но – и это важно подчеркнуть – его любовь к пейзажам и новым странам, как и его любовь к музыке и театру, была исследовательской страстью. Марсель стремился подметить в видимом пейзаже приметы невидимого, скрытые за видимостью. В своих путешествиях он развивал хватку настоящего мыслителя, учась за «корой вещества» прозревать «нетленную порфиру» неведомого, тайного. С таким багажом он и пришел в собственно философию, которая в те годы начала ХХ века была по преимуществу неокантианским идеализмом. Образцовым представителем рационалистической философии был во Франции Леон Брюнсвик, с которым жизнь и деятельность Марселя потом не раз знаменательным образом пересекалась. Так, например, во время Декартовского конгресса по философии (Париж, 1937) Леон Брюнсвик, комментируя выступление Марселя, заметил, что смерть Габриэля Марселя занимает Габриэля Марселя куда больше, чем смерть Леона Брюнсвика занимает Леона Брюнсвика. «Я ему ответил на это, – говорит Марсель, – что он ошибочно истолковал поднятый мною вопрос и что достойным внимания каждого из нас вопросом является исключительно вопрос о смерти того существа, которое мы любим»[4].
Бессмертие в марселевском смысле неотделимо от любви. В спор, в конфликт не на жизнь, а на смерть вступает со смертью именно любовь. Так уж случилось, так сложился мир вообще и мир Марселя в частности и в особенности, если вспомнить, что любимую мать он потерял еще малышом. И смыслообещающим фактом всей его жизни стало ее присутствие в его жизни. «Таинственным образом, – говорит философ, – но она всегда была со мной». Умершая, но любимая всем существом, мать всегда присутствовала (restée présente) в самой глубине его бытия. Умершая мать не объективировалась для него в виде, скажем, «призрака», нет, она именно присутствовала. Присутствие, по Марселю, – это не-объектное бытие, бытие, недоступное объективации. Как объекта, как вещи, говорит Марсель, нет и Бога, но Он присутствует для верующего в Него. Человек как духовное существо, как личность также только частично может объективироваться. Поэтому в глубине люди друг для друга присутствуют или нет. Вещное наличие их при этом мало что значит. Объект, говорит Марсель, не присутствует. Он – данность, которую можно верифицировать. Присутствие же верификации не подлежит. О нем можно свидетельствовать, его можно признавать. Но знать его так, как можно знать объект, нельзя. Вместе с присутствием мы выходим в мир персоналистической экзистенциальной онтологии. И вопрос о смерти и бессмертии, глубоко заданный, формулируется, по Марселю, как раз в поле присутствия. На уровне вещей-объектов смерть есть необратимое разрушение живого тела как объекта и больше ничего. Никакого бессмертия здесь нет и быть не может.