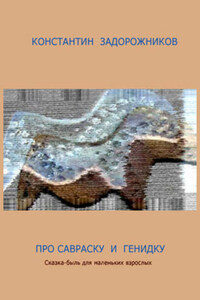Жили два конька. Одного звали очень просто – Савраска, так как был он саврасый. Имя второго следует пояснить особо. Если вы не читали Отто Вейнингера, то понять вам будет, может, и непросто.
Старина Отто, перед тем, как отойти в мир иной, написал трактат о природе женской, в котором указал на одну отличительную особенность женского ума от мужского, а именно – отсутствие шансов на гениальность. Много чего есть у женщин, что мужчине и не снилось, а вот этого Бог не дал (что, впрочем, не делает их хуже или лучше, просто они – вот такие). Но, поскольку человек без гениальности не может, то оставил Господь женщине некую предпосылку, эдакую предтечу гениальности, которую старик Отто назвал генидами. То есть, где-то, «эбаут»-гениальность».
Когда Генидка родился, он не был еще Генидкой. Масти жеребенок оказался какой-то неопределенной, и сам весь нескладный, хотя и не без признаков породы – так что никто соответствующего имени ему подобрать не мог. Долго старались всей деревней, но никто так и не сумел этого сделать, словно заколдованный был этот жеребчик. Дело дошло до того, что спрашивать стали у лошадей, как его назвать (лошади к этому времени уже разучились говорить по-человечески, и спрашивать их мог только тот, кто знал язык лошадей. Он похож на английский, только слова как бы навыворот, и их не слышно из-за ржания, поэтому принято считать, будто лошади не говорят).
Лошади тоже затруднялись решить этот вопрос, так что местный конюх, который мог общаться с ними, доведя себя до определенной стадии душевности, потеряв всякую надежду, спился с круга. Спас положение Савраска. Вы, наверное, не знаете, что если жеребенку не дать имя в течение семи дней, то он начинает терять ориентировку в пространстве и времени. Если такое состояние затянется, лошадь может заболеть и придти в негодность. А негодных лошадей, сами понимаете…
Шел восьмой день безвременья все еще новорожденного жеребца. Он понуро стоял у копны сена и жевал. Подошел к нему Савраска.
– Что ты делаешь? – спросил он.
– Я толком не знаю, но что-то делаю, – хмуро отвечал жеребец.
– Брось это глупое занятие – что-то делать. Надо делать что-то, а не что-то делать, – с видом знатока сказал Савраска. Он имел на то право, так как, будучи названным своевременно, успел кое-чему в жизни научиться. – Пойдем лучше погоняем по лугу.
– Да я, вроде, не знаю, как это делается. То есть, забыл.
– Как можно забыть, если не знал? – удивился Савраска и потерся носом о бок товарища.
– Когда я был большим… – начал было тот, но Савраска перебил его:
«Постой-постой».
Савраска неожиданно для себя понял, что чувствует то же, что и этот странный жеребец, и то, что этот странный жеребец чувствует то же самое, что чувствует Савраска. Это родилось внезапно, и как только было осознано Савраской, тут же стало осознано и его товарищем. Они, оба одновременно, увидели длинную вереницу лошадиных жизней, в которых жили-были они, в незапамятные времена, и становились они большими, потом маленькими, затем вновь большими и обновлялись, оставаясь в то же время прежними.
Они стали смотреть это разворачивающееся перед их внутренними взорами действо – феерическую мистерию лошадиных перерождений, наполненную звоном степи под копытами, прозрачными озерами, поросшими ковылем курганами, дымом кочевых костров. Там были взрывы и сабли, флаги и солдаты. Там были страшные рудники с потом и крупными, солеными лошадиными слезами, запал скачки по кольцам ипподромов. Там был запах дикого меда и кобыльего молока, и запах крови на бойнях. Там были дружное ржание молодых, влюбленных в небо и друг в друга жеребят, и храп загнанных лошадей, и пена на губах, и выстрел прямо в ухо, и последний взгляд на того, кто был бесконечно дорог всю твою лошадиную жизнь, а теперь, закрывая лицо, мокрое от слез, стрелял из нагана в ухо своего вороного товарища, уже не пригодного для такой дружбы – с погонями, преследованиями, звоном сабель, скрипом колес походных кибиток, с искаженными гримасой ужаса лицами рассеченных надвое седоков, которые несутся навстречу на таких же пьяных от восторга атаки конях…
– Откуда это? – спросил пораженный Савраска, поймав себя на том, что смотрит на товарища как бы снизу-вверх.