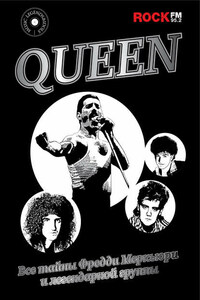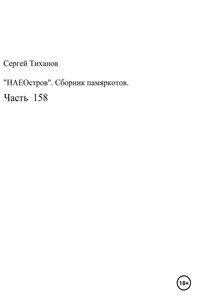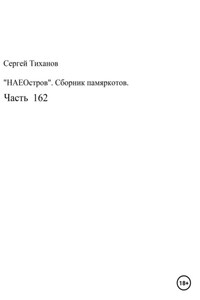Кремлевская больница, обычная врачебная суета, Врач суетится туда-сюда по сцене, перебирая какие-то бумаги, когда входит Медсестра
Врач. И где, осмелюсь спросить, вас носило?
Медсестра. Евгений Сергеевич, так в ординаторской… Новые больные, заполнить карты…
Врач. Заполнить карты… Тоже мне, развели бюрократию! У нас, Машенька, с вами и так забот полон рот, а тут еще эти бесконечные бумажки…. Нет, надобность их никто не оспаривает, как говорится, нужно же знать, что показать патологоанатому, хе-хе-хе… Медицинский юмор, привыкайте Машенька!
Медсестра. Я привыкаю.
Врач. Очень, очень хорошо. Я, знаете, Машенька, сам долгое время привыкнуть не мог, ко всем этим шуточкам-прибауточкам, но потом, знаете ли, сроднился, а там уже – и как-то сам втянулся, стал рассказывать те же анекдоты, да еще и новые придумывать, да-с… Кто-то говорит – очерствел душой. Я же полагаю – что наработал профессионализм. Ну-с, так что у нас там с кем?
Медсестра. Больной из четырнадцатой…
Врач. Что с ним?
Медсестра. Кричит. Очень мучается.
Врач. Что естественно в его положении… Морфины давали?
Медсестра. Каждый час колем. Все равно – кричит. Страшно кричит.
Врач. Не жилец.
Медсестра. То есть как – «не жилец»? Евгений Сергеевич, как вы можете такое говорить?
Врач. Могу, милая моя, еще как могу. Мы, врачи, должны понимать всю жестокосердность происходящего, видеть реальность во всей ее неприкрытой красе и во всем ее объективном ужасе. Диалектика, черт бы ее побрал…
Медсестра. Евгений Сергеевич, какая диалектика?! Он же так… кричит…
Врач. Такова жизнь и такова смерть. Человек приходит в этот мир с криком и зачастую уходит из него с еще более громкими воплями…
Медсестра. И мы ничего не можем поделать?
Врач. Можем. Давать ему морфий. Регулярно. Пока не кончится.
Медсестра. Что кончится – морфий?
Врач. Пока он не кончится. По моим расчетам ему осталось часа два, не более.
Медсестра. И вы… так… говорите….
Врач. А как я должен говорить? «Ах, Машенька, что нам делать?» – и картинно заламывать руки? Милая, я прекрасно знаю, что нам надо делать – спасать тех, кого можно спасти, и постараться уменьшить страдания тех, кого спасти нельзя. На буржуазном западе даже придумали гуманное умерщвление смертельно больных – вкалывают человеку чуть большую долю того же морфия, и все… Это называется «эвтаназия», «легкая смерть» – гуманнейшее изобретение, доложу я вам! Но наше марксистское сознание и социалистический гуманизм, конечно, отрицает столь чуждые штуки, наше рабоче-крестьянское воспитание направлено на борьбу с трудностями. Что для нас смерть? Так, мелкое препятствие в жизни отдельного человека и сущий пшик для всего коммунистического общества… Машенька, послушайте старого человека – отбросьте сострадание, мы, врачи, должны действовать. Дайте вашему бедняге из четырнадцатой двойную дозу, чего уж тут… Если Галочка спросит – скажете, что я разрешил… Он заснет… Может быть… По крайней мере, облегчение я ему гарантирую… А что до вас… Поезжайте-как вы спать, завтра с утра вы будете нужны мне молодой и свежей… Вот так… Еще успеете на трамвай. (суетливо перебирает бумаги и уходит)
Медсестра. Двойная… двойная доза, чтобы облегчить… Облегчить…
Из глубины сцены раздается стон – это стон умирающего зверя, страшный не то рык, не то вой. Стон повторяется несколько раз – и в глубине сцены зажигается свет: мы видим больничную койку, на которой, разметавшись среди простыней и подушек лежит тяжело больной – нет, фактически умирающий человек. Это – Яков Юровский.
Юровский. Да помогите же… Помогите мне… Кто-нибудь… Сестра… Сестра…
Медсестра (подбегает к нему). Я здесь, здесь, тише, тише, сейчас… (кладет ему полотенце на лоб, набирает в шприц морфин, делает укол) Вот так… Сейчас все пройдет, сейчас…
Юровский. Вы думаете? Вы всегда так говорите… Все всегда так говорят, делают укол, а потом…
Медсестра. Чщ-щ-щ… Тише… Не дергайтесь, лежите, сейчас станет легче… (гладит его по голове, Юровский неожиданно успокаивается и затихает) Видите?… Чувствуете?…
Юровский (тихо). Да… Легче… Вы тут давно? Мне кажется, я не видел вас здесь раньше…
Медсестра. Второй день. Я после курсов только.
Юровский. Курсы… Милая девочка… Как вас зовут, милая девочка?
Медсестра. Мария. Маша.
Юровский. Маша… Маша?! Маша… (начинает снова метаться, медсестра удерживает его – вдруг резко застывает) Глаза… Какие у вас глаза… Синие…
Медсестра (с улыбкой). Ага. Я как родилась – глаза на пол-лица были. Папа очень веселился – все дразнил меня, называл – «машкины блюдца».
Юровский. Что?! Как вы сказали?!
Медсестра. «Машкины блюдца».
Юровский. Так их называл – кто?! Ваш отец?!
Медсестра. Да. Лежите смирно, чщ-щ-щ…
Юровский. А кем он был, ваш отец?
Медсестра. Да я и не видела его почти… Он погиб в Гражданскую, где-то на Урале…
Юровский. На Урале?!
Медсестра. Где-то там… Не знаю даже место… Я была совсем маленькой, а он… Он… Помню, как он целовал меня, щекотал усами и бородой, у него была такая небольшая борода, я потом видела на фото…
Юровский. Борода, да, борода… А как звали вашего отца? Случайно, не Николаем?
Медсестра. Откуда вы знаете?
Юровский. Я?! Я?! Я-а-а-а-а!!!! (кричит, бьется – Медсестра в ужасе отпрянула, – но вдруг застывает) Вы знаете, Мария, кто я такой?
(Медсестра растерянно качает головой в отрицании, затем начинает перебирать историю болезни)
Юровский. Не трудитесь. Меня зовут Яков Юровский, и я…
Медсестра. Тут написано. Вы – директор Политехнического музея.
Юровский. Это сейчас. А когда-то раньше я… Мария, однажды я убил нескольких людей. Несчастных людей, запутавшихся людей – и невинных людей. Нет, я, конечно, убивал не только невинных, я убил даже одного страшного злодея, ужасного человека… Вы хотите знать, кого я убил?
Медсестра. Да что вы такое говорите? Это у вас бред…
Юровский. Никакой это не бред. Мария, так скажите мне – вы хотите знать, кого я убил?
(Медсестра завороженно смотрит на него – между Юровским, глядящим на нее безумным взглядом, и ею самой возникает напряженное пространство долгой-долгой паузы)
Юровский (четко, громко, ясно, без тени боли в голосе