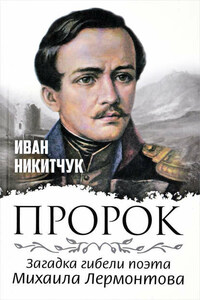Михаил Юрьевич Лермонтов… Нет в русской литературе фигуры более талантливой, притягательной и загадочной. Он как метеор пролетел над своим временем, ярко осветив его блеском своей поэзии.
Этот молодой военный, в николаевской форме, с тонкими усиками, выпуклым лбом и горькою складкой между бровей, был одною из самых феноменальных поэтических натур.
Исключительная особенность Лермонтова состояла в том, что в нем соединялось глубокое понимание жизни с громадным тяготением к сверхчувственному миру. В истории поэзии едва ли сыщется другой подобный темперамент. Нет другого такого поэта, который считал бы небо своей родиной и землю – своим изгнанием. Если бы это был характер дряблый, мы получили бы поэзию сентиментальную, слишком эфирную, стремление в «туманную даль», второго Жуковского, – ничего более. Но Лермонтов был человеком сильным, страстным, решительным, с ясным и острым умом, вооруженный волшебною кистью, смотревший глубоко в действительность, с ядом иронии на устах. И поэтому прирожденная неотразимая потребность Лермонтова в признании мира разливает на всю его поэзию обаяние чудной, божественной тайны. Он оставил во всей своей поэзии глубокий след таинственной связи с вечностью. Он не от мира сего. Откуда-то, с недосягаемой высоты, поэт осыпает нас своими чарующими песнями…
Это был человек гордый и в то же время огорченный своим внеземным происхождением, с глубоким сознанием которого ему приходилось странствовать по земле, где все казалось ему доступным для его ума и таким гадким для сердца.
Индивидуальность Лермонтова была и остается в течение почти двух веков загадкой. Во всем, что он писал, чувствуется взор человека, парящего «над грешной землей», человека, «не созданного для мира»…
Из всех загадок трагической дуэли не загадочно только поведение самого Михаила Лермонтова. Он никого убивать не собирался, стрелять не собирался, воспринимал все как нелепое недоразумение… Мысли Мартынова понять значительно труднее. Прямодушным этот человек никогда не был. Он понимал, что Лермонтов – храбрый офицер – примет его вызов, но стрелять в него не будет. Он наверняка переживал из-за шуток Михаила Юрьевича, но еще больше завидовал ему. Мечтал ли он тогда же, во время дуэли, о геростратовой славе? Вполне возможно. Увы, но он, может быть, предвидел, что когда-нибудь войдет в число «великих людей России» благодаря тому, что убил русского гения…
Смерть Лермонтова от пули Мартынова была по существу самоубийством: в последний год жизни Лермонтов делал все, чтобы его вызвали на дуэль. Трагедия Мартынова в том, что он не смог стать выше оскорбленного самолюбия…
Ожог души и сердца – вот в чем сущность Лермонтова и его гения. Темное небо времени ожглось им, как метеором. Лермонтов – сгусток бунтарского пламени – погашен о черную дыру века…
1841 год. Ранняя весна. Вечер. У входа в летний театр на Елагином острове стояли Лермонтов, Э. Мусина-Пушкина, Столыпин (Монго) – двоюродный дядя Лермонтова, на два года моложе племянника, молодой офицер, и поэт – граф Соллогуб. За черными деревьями мигали зарницы. Ветер налетал порывами и почти задувал свечи в больших фонарях. С шумом ветра сливались звуки скрипок и флейт, настраиваемых в оркестре.
– Должно быть, в заливе сейчас ужасная буря, – с грустью в голосе проговорила Мусина-Пушкина.
– Да, весной здесь часто бывают непогоды, – ответил Лермонтов. – Но весной все быстро меняется, и вслед за бурей быстро появляется солнце. Ах, милая, природа это удивительный мастер наряжать все вокруг нас с восхитительным вкусом.
– Государь и государыня насаждают подлинный вкус не только в нарядах дам, но и в более серьезных областях искусства, – некстати парировал Соллогуб, обращаясь за поддержкой к Столыпину.
Лермонтов рассмеялся.
– Вы разве не согласны со мной, Михаил Юрьевич? – с удивлением спросил Соллогуб.
– Право, не знаю, граф… Я еще не тратил своего времени на то, чтобы подумать об этом. Во всяком случае, ваша мысль не лишена некоторого остроумия.
Мусина-Пушкина умоляюще посмотрела на Лермонтова:
– Господа, полно вам, пойдемте в залу. Здесь становится холодно. Кажется, сегодня в зале будет великая княгиня Мария Николаевна.
Зал театра уже порядочно был заполнен гостями, ярко освещен – блистали мундиры, наряды и бриллианты, гремела музыка.
– Какой блеск вокруг! – воскликнула Эмилия Карловна.
– Да, блеск беспощадный, – с насмешкой в голосе отозвался Михаил Юрьевич.
– Вы, Михаил Юрьевич, как всякий поэт, любите необычайные сравнения. Что же беспощадного в этом блеске? – удивленно спросил Соллогуб.
– Этот блеск удивителен тем, что в одно мгновение может разрушить наши прекрасные надежды на счастье, наши прекрасные иллюзии… Недавно, граф, ночью я ехал в Царское на лошадях. Подходила гроза. Передо мной в темноте стояли густые высокие нивы, подымались кущи столетних деревьев, и мне казалось, что я еду по богатой, устроенной к счастью стране. Но сверкнула очень яркая зарница, и я увидел каждый колос хлеба на пыльных полях, жалкие хижины. Колосья были редкие и пустые, хижины – покосившиеся. Так исчез обман богатой и счастливой страны.
– Да… Это весьма интересно…, – растерянно промолвил Соллогуб.
– Наоборот, это весьма огорчительно.
– Должен ли я понимать ваш рассказ как иносказание?
– Располагайте свободно своим мнением, граф.
– Тише, господа, дочь императора вошла в зал, – шепнула Эмилия Карловна.
В зале прошел шепот, дамы и кавалеры поклонами приветствовали великую княгиню. Мария Николаевна, оглядываясь, подозвала Соллогуба.
– Кто этот офицер, с которым вы тотчас разговаривали, граф?
– Это Лермонтов, ваше высочество.
– Вот он каков! Какие у него мощные плечи и какой неприятный взгляд. Он некрасив, но притягателен.
Лермонтов был небольшого роста, широк в плечах и вообще нескладен; казался сильного сложения, неспособного к чувствительности и раздражению; походка его была несколько осторожна для кавалериста, жесты его были отрывисты, хотя часто они выказывали беззаботное равнодушие. Но сквозь эту холодную кору прорывалась часто настоящая природа человека; видно было, что он следовал не всеобщей моде, а сжимал свои чувства и мысли из недоверчивости или из гордости. Звуки его голоса были то густы, то резки, смотря по влиянию текущей минуты: когда он хотел говорить приятно, то начинал запинаться. В свете утверждали, что язык его зол и опасен… Лицо его смуглое, неправильное, но полное выразительности, на нем можно было прочесть следы прошедшего и чудные обещания будущности… В его улыбке, в его странно блестящих глазах было что-то таинственное. Они не смеялись, когда он смеялся! Это признак – или злого нрава, или глубокой постоянной грусти. Из-за полуопущенных ресниц они сияли каким-то фосфорическим блеском, если можно так выразиться. То не было отражение жара душевного или играющего воображения: то был блеск, подобный блеску гладкой стали, ослепительный, но холодный; взгляд его – непродолжительный, но проницательный и тяжелый, оставлял по себе неприятное впечатление нескромного вопроса и мог бы казаться дерзким, если б не был столь равнодушно спокоен… При этом он имел одну из тех оригинальных физиономий, которые особенно нравятся женщинам…