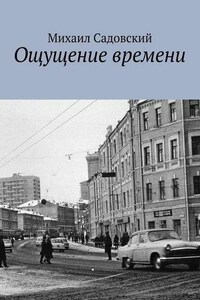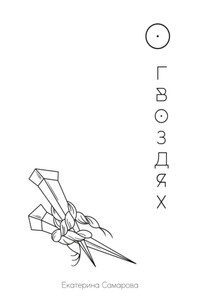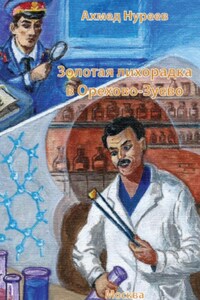Видно совушку по пёрышку
а сироту по одёжке.
Сирота, что камень на распутье
никто не видит, как сиротка плачет.
Русские народные пословицы
Когда по ночам одолевают сны на одну тему – с продолжением… Когда просыпаешься в полной темноте и не можешь ещё перенестись из далёкого далёка в реальную действительность, но, преодолевая сердцебиение, поднимаешь пудовые веки, беспомощно ищешь не положенные почему-то с вечера на тумбочку карандаш, тетрадку, чтобы записать (а вдруг повезёт!) увиденное… Когда потом целыми днями ходишь и доигрываешь, досочиняешь, досматриваешь, достраиваешь ночное видение – это верный признак! Значит, книга, дремавшая внутри тебя, зашевелилась, стронулась с места и уже не даст покоя, пока не выльется на страницы и не освободит твою душу от ещё одного… одного… одного того, о чём ты хочешь рассказать другим людям, живущим рядом. Может быть, кто знает, даже потомкам.
Ты не обязан это делать. Никому не обязан. Но не можешь не сделать. Долгие годы сочинительства подсказывают тебе, что сопротивляться бесполезно, и тогда измученный и уже утомлённый этой борьбой с самим собой, бросаешься к своим орудиям производства и начинаешь строчить, не успевая за собственной мыслью. Случается, что это вынужденное действо вызывает в тебе протест и отвращение, но нет сил противостоять ему. Нет. И по мере того, как описываемые люди оживают, начинают действовать самостоятельно, порой вопреки твоей воле, ты всё больше прирастаешь к ним, в кого-то влюбляешься, кого-то ненавидишь, но уже не можешь жить ни без тех, ни без других. И всё долгожданней становится раннее утро, когда все спят! Лишь за окном пробуждается жизнь, неспешно и неохотно, и напоминает тебе, что она – продолжение того, о чём ты пишешь, и иногда невольно вперебивку врывается на страницы. И всё быстрее, быстрее бежит рука, и всё роднее и роднее тебе твоё собственное повествование, которое освобождает тебя от груза многих лет, десятилетий. От груза, порой тяжкого и неудобного. Твой лучший собеседник и слушатель – страница! Она покорно впитывает всё-всё, что ты ей доверяешь, и не противоречит, и не потеряет ни строки, ни слова, ни запятой. И как же не хочется уже тебе с ней расставаться! Со всеми, кем ты населил её! Со всем, что с болью и стеснением ей передал! О, Господи! Продлись мгновение! Но, увы! Прощайте, мои дорогие однокашники, голодные малаховские мальчишки и девчонки, люберецкие и панковские ремесленники, тишинские беспризорники, московские детдомовцы, маленькие несмышлёныши из далёких краёв России, Украины, Узбекистана, Грузии. Уезжающие с новыми родителями далеко за океан. Прощайте, американские папы и мамы, обретшие новых членов своих семей и, надеюсь, вместе с ними – счастье.
Большинство из вас я никогда больше не увижу. И, «отписавшись», то есть переведя вас на страницы, возможно, всё реже буду вспоминать. Но всё равно ваши боли и надежды такой след оставили в моей душе, что никогда она не будет гладкой, обтекаемой для чужой беды и глухой к чужому стону.
«Фитит фитёк», как говорила моя маленькая дочка, под половицей. Этот сверчок – метроном моего внутреннего слуха. Рассвет тренькает тоненьким солнечным лучиком по разболтавшемуся в раме стеклу. Птица, сорвав ноту, чистит клюв с двух сторон о веточку и выводит утреннюю побудку чисто и радостно. Гремят ложки по дну быстро пустеющих алюминиевых мисок за длинным столом в детдомовской столовке. Надрывается полуторка, выбираясь из очередной ямы в бездорожье. Плачет мальчишка, боясь покинуть свой детский дом, который вчера ещё проклинал. Гудки на захламленной станции. Гнусавый голос дикторши в аэропорту, на непонятном языке объясняющий неизвестно что…
И запах сиротства и беды, от которого каждый пытается убежать…
Как и куда?
Для меня сейчас – в эту книгу…
Осенняя назойливая муха уже который раз ударялась о стекло, падала на крашеный подоконник, отчаянно жужжа, переворачивалась со спины на ноги и снова, бешено промелькнув от стены к стене, стремительно разгонялась в направлении окна.
Хозяйка кабинета молча, не замечая времени, смотрела на эти безумные попытки вырваться к свету и размышляла о своём. Она не занималась аналогиями, просто думала о своём, повседневном, что называли текучкой, потому что текло оно и текло изо дня в день. Река эта никуда не впадала, и плыть по ней можно было только в одну сторону – по течению. Зато, чем больше барахтаешься в ней, тем сильнее память стремится назад.
Накатывающийся гул поезда заглушил бесконечный полёт. Часто и тоненько задолдонил стакан на стеклянном подносе с графином воды… Сколько она себя помнила, он тут стоял и каждый раз первым оповещал о приближении поезда. Звонил вместо часов – поезда ходили точно.
«Это товарный, – ничуть не отвлекаясь, отметила она. – Раньше в три ровно проходил, потом на два тридцать спустили, а теперь-то… с этой перестройкой… Теперь-то уж время не проверишь!» – подумала она.
Состав загрохотал совсем рядом, за стеной зелени, отгораживающей близко стоящий к полотну дороги дом.
Она подошла к окну, распахнула створку. Муха вырвалась наружу и бесшумно исчезла в чаще полыни и рыжеющей крапивы… Пряный запах увядания ударил в нос и повлёк назад. Запах – самый сильный и верный поводырь в прошлое.
Когда она была девчонкой, они с Веркой здесь, в зарослях, подступавших к забору, у самой насыпи, прятали свои «секретики» в ржавом железном ящике без дверцы. Как он сюда попал, они не знали, может, сковырнулся с платформы на ходу, и для чего его сварили из грубых обрезков железного листа, им было невдомёк. Но если засунуть руку по локоть в переполовиненную стенку под наклонной его крышкой, можно было уложить там в любом углу на сохранение, что хочешь: тряпичную куклу в самодельных нарядах, коробочку с выкопанными черепками, на которых остались следы золотых полосок и киноварь цветов чашек и блюдец, может, ещё царских, кузнецовских времён… Фантики от удивительных конфет, неведомо как попавшие к ним, сложенные в плоскую жестяную баночку из-под ландрина. На их потёртых боках с трудом можно было разобрать волшебные названия конфет: «Мимоза», «Ну-ка, отними», «Красный мак», «Раковые шейки»…
Фантики среди ребят ходили вместо настоящих денег, их можно было просто обменять на другие или получить конфету-подушечку, обсыпанную сахарными кристалликами, дольку сушёной груши из смеси, которая называлась «компот из сухофруктов»… Верка однажды за «Суфле» выменяла треть карандаша с шлифованными жёлтыми гранями и полуоблезшими золотыми словами, написанными нерусскими буквами. От очиненного конца возле грифеля пахло замечательным и незнакомым деревом другой страной, чужой жизнью. А здесь у них…