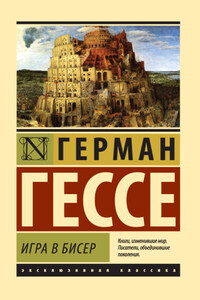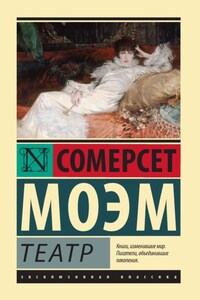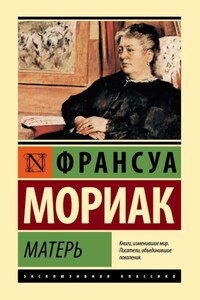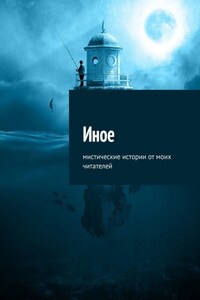Долгие годы Раймон Курреж тешил себя надеждой, что еще встретит на своем пути Марию Кросс, которой он так жаждал отомстить. Не раз он, бывало, на улице бросался догонять какую-нибудь женщину, приняв ее за ту, кого искал. Но с течением лет злоба его притупилась, и когда судьба наконец столкнула их с Марией лицом к лицу, в первый миг он не ощутил того яростного торжества, какое должна была бы вызвать в нем эта встреча. В тот вечер он раньше обычного зашел в бар на улице Дюфо; было только десять часов, и джазовый певец-мулат услаждал своим пением одного-единственного слушателя – метрдотеля. В узком зале, который к полуночи едва вмещал желающих потанцевать, жужжал вентилятор, словно большая муха. Швейцара, удивленно заметившего: «Как вы сегодня рано, мосье!» – Раймон не удостоил ответом, лишь сделал знак рукой, чтобы он прекратил это жужжание. Напрасно швейцар на правах старого знакомого пытался убедить его, что это вентилятор «новой системы, он поглощает дым, не делая ветра», – Курреж смерил его уничтожающим взглядом, и тот отступил назад в гардероб, а вентилятор на потолке вдруг затих, как, опустившись на цветок, затихает шмель.
Молодой человек сел за один из столиков, нарушив их безупречную крахмально-белую линию, и поймал свое отражение в зеркале: выглядел он скверно, как в худшие свои дни. «В чем дело?» – подумал он. Черт побери, он ненавидит такие вот потерянные вечера, а сегодняшний вечер потерян из-за этой скотины Эдди X. Раймону пришлось чуть ли не силой тащить юнца из дома, чтобы повести его в кабаре. Во время ужина Эдди, нетерпеливо ерзавший на стуле и весь захваченный уже каким-то новым предстоящим ему удовольствием, извинился за свою рассеянность: у него-де ужасная мигрень; а выпив кофе, удрал – веселый, с горящим взором и красными ушами, раздувая ноздри. Весь минувший день Раймон рисовал себе приятную перспективу этого вечера, но Эдди, несомненно, открыл для себя иные радости, более упоительные, нежели разговор по душам.
Курреж удивился, что испытывает не только разочарование и унижение, но и грусть. Его потрясло, насколько дорог ему теперь даже самый никчемный приятель; для него это было ново: до тридцати лет, всецело поглощенный женщинами, он не ведал бескорыстия, которого требует мужская дружба, презирал все, что представлялось ему недостойным обладания, и, как ребенок-обжора, мог бы сказать о себе: «Я люблю только то, что можно слопать». В те времена товарищи были нужны ему лишь как свидетели и поверенные его тайн; друг был для него прежде всего парой ушей. Отрадно было и убеждаться в том, что он верховодит друзьями, подчиняет их себе; оказывать влияние на людей стало для него потребностью, и он кичился тем, что постепенно их развращает.
Раймон Курреж мог бы создать себе такую же клиентуру, как его дед – хирург, брат деда – иезуит, отец – врач, если бы он оказался способен подчинить свои страсти целям карьеры и не был бы столь нетерпелив в утолении мимолетных желаний. И вот теперь он достиг возраста, когда господства над людьми можно добиться, только найдя доступ к их душе, а Курреж умел разве что преподать своим ученикам науку утонченных наслаждений. Однако молодые явно предпочитали общество своих сверстников, и его круг понемногу редел. Для любви хватает поживы надолго, но небольшая кучка друзей, начинавших жизнь вместе с нами, тает с каждым днем. Кто пережил потрясения войны, тех либо засосала семья, либо до неузнаваемости изменила работа, и Курреж, глядя на их седеющие волосы, на их лысины и животики, ненавидел их за то, что они его ровесники: он не мог им простить, что они убили свою молодость, предали ее еще до того, как она сама от них отвернулась.
Он гордился тем, что и после войны остался холостяком, и в тот вечер, сидя в пустом еще баре, где только приглушенно напевала мандолина (пламя мелодии то гасло, то, мерцая, вспыхивало опять), жадно разглядывал в отражении зеркал свое лицо под густой шапкой волос – лицо, которое тридцать пять прожитых лет еще не отметили своей печатью. Однако ему подумалось, что старение, не тронув пока его тело, исподволь подтачивает его жизнь. Хотя ему было лестно слышать, как женщины спрашивают: «Кто этот высокий молодой человек?» – он все же не мог не знать, что более прозорливые двадцатилетние юнцы уже не причисляют его к своему эфемерному племени. Может быть, у Эдди нашлось занятие поинтереснее, чем до зари разговаривать с ним под оглушительный рев саксофона, а может быть, он просто сидит сейчас в другом баре, изливая душу какому-нибудь мальчишке 1904 года рождения, который поминутно перебивает его восклицаниями: «Я тоже!» или: «Точь-в-точь как я!»
Вошли какие-то молодые люди, от робости напустившие на себя высокомерие и важность и растерявшиеся при виде пустого зала. Они обступили бармена и прилипли к стойке. Курреж никогда не позволял себе страдать из-за другого человека, будь то любовница или приятель. И вот, прибегнув к обычному методу, он уговаривал себя, что не стоит так огорчаться из-за бегства какого-то Эдди X. – слишком много чести для подобного ничтожества. Его порадовало, что он без малейшей боли может вырвать из сердца ростки недавней привязанности. Он до того разошелся, что вознамерился завтра же выставить мальчишку за дверь, и бестрепетно решил больше никогда с ним не видеться. Ему даже стало весело, когда он подумал: «Я его вышвырну вон…» Курреж вздохнул с облегчением; но он все же чувствовал, что на душе у него осталась какая-то тяжесть и что Эдди тут ни при чем. Ах да, письмо, которое он нащупал в кармане смокинга… Перечитывать его незачем: доктор Курреж, обращаясь к сыну, пользовался всегда эллиптическим языком, легким для запоминания.
«Остановился в “Гранд-отеле” на время съезда врачей. В твоем распоряжении утром до девяти, вечером после одиннадцати.
Твой отец Поль Курреж»
Раймон пробормотал: «Еще чего!» – и лицо его невольно ожесточилось. С отцом у него были особые счеты, он не мог просто презирать старика, как презирал всю остальную родню. Достигнув тридцати лет, Раймон безуспешно пытался вытребовать себе такую же долю имущества, какую получила его замужняя сестра. Когда родители ему отказали, он сжег мосты. Однако все состояние принадлежало его матери, госпоже Курреж, и Раймон прекрасно знал, что, будь дело за отцом, тот бы не поскупился – деньги для него ничего не значили. Он повторил: «Еще чего!» – но не мог не расслышать зова в сдержанном отцовском послании. Он не был так слеп, как госпожа Курреж, которую раздражала холодность и резкость мужа и которая часто повторяла: «Какой мне толк от того, что он добрый, если я сама этого не чувствую? Представьте себе только, что было бы, будь он злым».