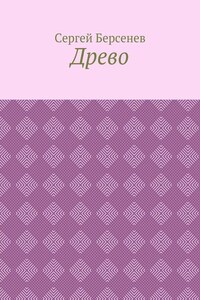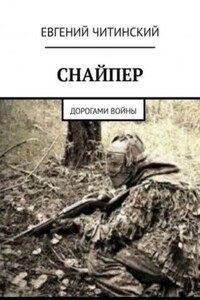Я бываю почти у каждого, но оценивают меня все по-разному. Одним запоминаюсь весёлыми друзьями, озорными проделками, катаниями на велосипедах, купанием в прудах и озёрах. Другие сетуют, что детства у них не было, и скучнее поры они не ведали. Сидели дома под строгим надзором нудных дедушек и бабушек, сдувавших пыль с чад, с первого класса читали учебники и навязанные школой книги о безумных героях, примерных мальчиках и девочках.
Почему-то меня хвалят, когда я награждаю подшефного возможностью разбить футбольным мячом окно на третьем этаже жилого дома, перебежать перед носом мчащегося с бешеной скоростью авто, исподтишка подразнить учителя или на летних каникулах во время отдыха в деревне залезть в чужой огород за клубникой и яблоками. За музеи и библиотеки хвалят редко, и то только отутюженные «отличники».
Взглянув внимательно на ребёнка, я стараюсь подобрать для него развлечения, соответствующие его характеру, интересам и даже внешнему облику, что тоже немаловажно. Представьте, например, замкнутого на десять амбарных замков вундеркинда, шляющегося с компанией по подъездам. Ершистый непоседа, привыкший с двенадцати лет нагло «стрелять» сигареты у пожилых мужиков и прибавлять к ноте «ля» вторую букву алфавита, вряд ли сядет смотреть художественный фильм на нравоучительную тему. К сожалению, я здесь не властно. Я переживаю, сочувствую, но вручаю каждому билет на тот поезд, который повезёт только его и только в заданном направлении.
У Гены Толстикова я складывалось сравнительно удачно. Родился он в захолустном городишке на Урале, куда занесло по распределению после окончания института московскую девушку Лизу Ефремову. Там она, вырвавшись свободной птицей из-под опеки строгих родителей, наскоро выскочила замуж за «плейбоя» местного значения, отбив его в жестоких сварах у ширококостных Прасковий, полногрудых Марфуш и вислозадых Авдотий. Правда, заумная супруга, схлопотав беременность, вскоре надоела любвеобильному жеребцу. Да и характерами они не сошлись, как Адам и Лилит. И Сафрона Толстикова снова потянуло на непривередливых землячек. Естественно, воспитанная, пусть и в нищете, но всё-таки цивилизованной, Елизавета не собиралась служить местной публике мишенью для насмешек и однажды, топнув ножкой, подала на развод. К тому времени Гене исполнилось девять месяцев.
Поначалу Лиза думала, что рождение сына заставит мужа по-новому смотреть на жизнь, но наивная душа сильно обожглась о раскалённую истину. Откуралесив запланированную неделю в честь наследника, Толстиков-старший принялся с ещё большим рвением ублажать женское население городка.
Итак, Геннадий Сафронович в младенческом возрасте, так и не «сфотографировав» на память ни одного уральского пейзажа, отбыл на постоянное место жительства в Москву. От непутёвого родителя ему достались многообещающая фамилия и непредсказуемые кержацкие гены.
Столица встретила малыша приветливо, особенно дедушка. На вокзале он буквально вцепился во внука морщинистыми руками и никому не хотел отдавать. Выпустил лишь дома, когда изрядно проголодавшийся карапуз стал требовать положенного кормления.
Если бы Гена был тогда года на четыре старше, то непременно обратил бы внимание на удивительную схожесть двух зданий: доисторической халупы, в которую его принесли из роддома, и московской кирпичной двухэтажки. Оба строения дышали на ладан. Первое – осталось в прошлом, а вот во втором – Толстикову суждено было прожить до окончания пятого класса английской спецшколы.
События приняли решение откладываться в памяти только через пять лет, но стартовый штрих имел довольно редкий, нестандартный оттенок. До этого времени Гена был исключительно домашним ребёнком и, чтобы бабушка с дедушкой до конца не испортили чадо своей активной любовью, Лиза рискнула пристроить сына в детский сад. Благо, министерство, где она работала, предоставило освободившуюся вакансию. Пару дней закомплексованный ребёнок протерпел, чувствуя себя в незнакомом обществе, словно в песочнице соседнего двора, а на третий «сделал ноги».
Всё бы ничего, да детский сад располагался недалеко от площади Дзержинского (Лубянки). Кончался же маршрут во внутреннем дворе жилого «винегрета», сразу за мостом, разделявшим улицу Горького (ныне Тверскую) и Ленинградский проспект. По пути любознательные глазёнки останавливались на волшебных витринах центрального магазина для юных покупателей, на каменных конях, взлетающих в небо с Большого театра, на сладких приманках булочных, кондитерских и на прочих ранее невиданных объектах. Странно, что пацан намотал солидный километраж и умудрился ни во что не вляпаться: как-то переходил улицы по утвердительным сигналам светофоров, не попался в силки рыскавших в поисках добычи педофилов, не растворился навсегда в снующем людском потоке. А в то время милиция, поднятая по тревоге, исследовала центр Москвы, словно под микроскопом.
Когда он предстал в одиннадцать часов вечера перед взволнованными родными, в матушкиной руке был наготове кожаный дедов ремень. На очереди улыбался зубастым страхом тёмный угол в прихожей. За Гену заступился дед, который баловал его, насколько позволяла фантазия. Везде таскал за собой: и на стадион «Динамо», чтобы приучить к безумному миру футбола (даже показал живого Яшина), и на ипподром, где в шутку советовался, на какую лошадь поставить деньги, и во дворец спорта «Крылья Советов», чтобы «наслаждаться» захватывающими боксёрскими поединками. Читать Толстиков научился не по сказкам, а по беговым программкам да по газете «Советский спорт». В его лексиконе не было фразы «мама мыла раму». Зато он выучил наизусть фамилии игроков и наездников.
А ещё в день рождения любимого внука дед откуда-то притащил красивого, пушистого кота. Недолго думая, нежного зверя нарекли Борькой. Кошара на удивление окружающих схватывал всё на лету, даже в туалете садился прямо на унитаз. Общение с Борькой активно формировало фундамент Генкиной души. Радость, нежность, привязанность накладывались в ней пласт за пластом, пока в бочку «мёда» не навалили три бочки» «дёгтя»
Так как квартира Толстиковых находилась на первом этаже, в окна были вставлены продольные прутья из прочного металла. Проветривая днём помещение, обитатели его не опасались залётных воров или шкодливых мальчишек.
Борька ненавидел улицу. Однажды дед попробовал вынести его на прогулку, но бедное животное запаниковало и, вырвавшись из рук, пулей рвануло назад. Зато летом, чинно усевшись на подоконнике, кот млел на солнышке с рассвета до сумерек, отходя лишь по надобности да к миске с рыбой.