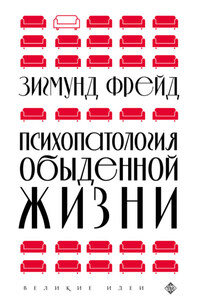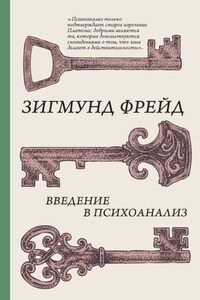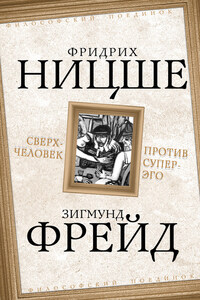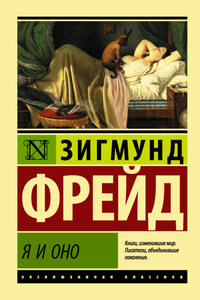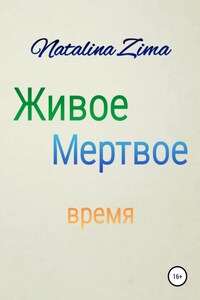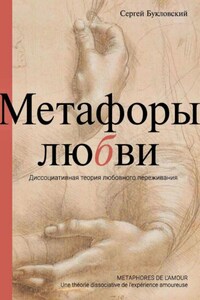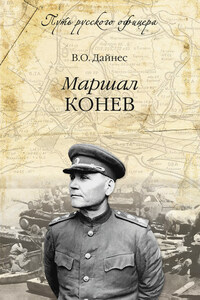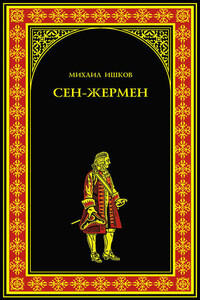I. Предварительные замечания
Заболевание, о котором я намерен здесь сообщить, – опять-таки в виде отрывка – отличается целым рядом особенностей, которые необходимо отдельно подчеркнуть, прежде чем приступить к изложению самого случая. Случай этот касается молодого человека, впавшего на 18-м году жизни, после гонорейной инфекции, в тяжелую болезнь, выражавшуюся в полной его зависимости от окружающих; он совершенно не был способен к существованию к тому времени, когда – спустя несколько лет после заболевания – с ним было предпринято психоаналитическое лечение. Первые десять юношеских лет до момента заболевания он прожил почти в нормальном состоянии здоровья и закончил среднее образование без особых затруднений. Но в предшествующие годы благополучие нарушалось тяжелыми невротическими страданиями, начавшимися как раз перед самым днем его рождения, на пятом году жизни, в форме истерии страха (фобии животных), превратившейся затем в невроз навязчивости с религиозным содержанием, причем некоторые симптомы сохранились до восьмилетнего возраста.
Содержание моего сообщения составит только этот детский невроз. На прямое предложение пациента с просьбой дать ему полное описание его заболевания, лечения и выздоровления я ответил отказом, так как считаю эту задачу технически неосуществимой и социально недопустимой. Благодаря этому пропадает возможность показать связь между его инфантильным заболеванием и более поздним окончательным. Относительно последнего я могу сказать только, что больной провел много времени в немецких санаториях, и тогда его заболевание авторитетным специалистом было классифицировано как маниакально-депрессивное. Этот диагноз был, несомненно, верен по отношению к отцу пациента, жизнь которого, полная интересов и деятельности, неоднократно нарушалась припадками тяжелой депрессии. У сына при многолетнем наблюдении мне не удавалось ни разу наблюдать перемену настроения, которая по своей интенсивности или по условиям своего возникновения превосходила бы то, что было естественно при той или иной создавшейся психической ситуации. Об этом случае у меня сложилось представление, как об одном из тех, в которых клиническая психиатрия ставит разнообразные и различные диагнозы и которые нужно понимать как последствие невроза навязчивости, самопроизвольно закончившегося выздоровлением с дефектом.
В моем описании будет, следовательно, идти речь об инфантильном неврозе, подвергнувшемся анализу не тогда, когда он был, а лишь пятнадцать лет спустя после того, как он прошел. Такое положение имеет свои преимущества, но вместе с тем и свои недостатки. К анализу, производимому непосредственно над невротическим ребенком, кажется, можно отнестись с большим доверием, но такой анализ не может быть очень содержателен; приходится подсказывать ребенку очень много слов и мыслей, и все же самые глубокие слои могут оказаться непроницаемыми для сознания. Анализ детского заболевания, проходящий через среду воспоминаний, у взрослых и духовно зрелых свободен от этих ограничений; но необходимо принять во внимание искажения и переработку, которым подвергаются собственные воспоминания, когда рассматриваешь их ретроспективно в более поздний период жизни. В первом случае получаются, пожалуй, более убедительные результаты, второй – гораздо поучительней.
Во всяком случае, можно утверждать, что анализы детских неврозов могут претендовать на особенно повышенный теоретический интерес. Для правильного понимания неврозов взрослых они дают приблизительно столько же, сколько детские сны для снов взрослых. Дело не в том, что их легче разобрать или что они беднее элементами; трудность проникновения в душевную жизнь ребенка делает работу врача при их анализе особенно тяжелой. Но в них отпадает так много из позднейших наслоений, что самое существенное в неврозе выступает особенно ярко. Сопротивление, оказываемое выводам психоанализа, в настоящей фазе борьбы за психоанализ, как известно, приняло новые формы. Прежде довольствовались тем, что отрицали действительную реальность утверждаемых анализом фактов, а для этого лучшим техническим методом было избегать каких-либо проверок личным опытом.
Этот прием как будто постепенно сходит на нет; теперь идут другим путем: факты признают, но выводы, к которым эти факты приводят, стараются истолковать как-нибудь по-иному и таким образом их обезвредить, чтобы снова освободиться от всех неприличных новинок. Изучение детских неврозов убеждает в полной несостоятельности этих нетрудных или насильственных попыток перетолковать все по-иному. Оно доказывает преобладающее участие так охотно отрицаемых либидинозных влечений в формировании невроза и открывает отсутствие отдаленных культурных целей и стремлений, неизвестных ребенку и не имеющих поэтому для него никакого значения.
Другая черта, на которую излагаемый здесь анализ пытается обратить внимание, находится в связи с тяжестью заболевания и длительностью его лечения. Анализы, приводящие в короткий срок к благоприятному исходу, ценны для самочувствия терапевта и служат доказательством врачебного значения психоанализа; для успехов научного познания они по большей части ничего не дают. На них ничему новому не научишься. Они только потому так быстро удаются, что все необходимое известно уже заранее. Новое можно узнать только из анализов, представляющих особые трудности, для преодоления которых требуется, конечно, много времени. Только в таких случаях удается добраться до самых глубоких и примитивных слоев душевного развития и там найти разрешение проблем позднейших душевных формирований. Тогда начинаешь думать, что только тот анализ, который проник так далеко, заслуживает этого названия. Разумеется, один только случай не учит всему, что хотелось бы знать. Вернее говоря, он мог бы научить всему, если только сам в состоянии все понимать и не вынужден довольствоваться немногим благодаря собственной неопытности при восприятии.
В отношении таких плодотворных трудностей описываемый здесь случай болезни не оставляет желать ничего лучшего. Первые годы лечения не дали почти никакой перемены. Счастливое стечение обстоятельств привело к тому, что, несмотря ни на что, внешние условия сделали возможным продолжение терапевтических попыток. Охотно допускаю, что при менее благоприятных условиях лечение через некоторое время было бы прекращено; что касается точки зрения врача, то я могу сказать только, что в таких случаях последний должен вести себя так же «вне времени», как и само бессознательное, если только он хочет что-нибудь узнать и чего-нибудь достичь. Это ему в конце концов удастся, если он в состоянии отказаться от близорукого терапевтического честолюбия. Ту бездну терпения, покорности, понимания и доверия, которые требуются от больного и его родных, можно встретить только в немногих случаях. Но аналитик может себе сказать, что выводы, полученные в одном случае после такой длительной работы, помогут ему значительно сократить срок лечения следующего такого же тяжелого заболевания и таким образом постепенно преодолеть «вневременность» бессознательного, подчинившись ему в первый раз.