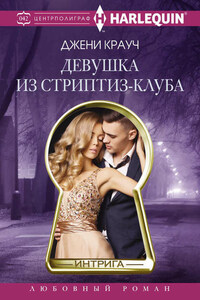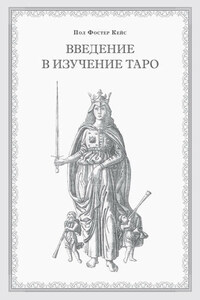Когда Крез, царь лидийский, – после того, как Кир завладел всем миром, захватив также его страну, и на поле брани войска, любимцы, друзья, военачальники покинули его, и он, Крез, выросший в жемчужных, самоцветами украшенных палатах, считавший, что нет на свете человека счастливее его, бежал, задыхаясь, перед воином-персом, чтобы хоть голову свою унести, – перс настиг его. Меч сверкнул над его головой, в глазах потемнело. Еще не лишился он жизни, но, думая, что смерть, вот-вот сейчас вырвет у него душу из тела, хотел уже сам вонзить меч себе в грудь, чтобы не от врага погибнуть, а воин, между тем, уже занес над ним меч, – как единственный сын царя, видя неминуемую смерть родителя, вдруг разверз уста: язык его, двадцать лет скованный немотой, разрешился, и сердце, двадцать лет молчавшее, впервые подало голос:
– Нечестивец! Кого убиваешь? Отведи свой меч! Не видишь разве, что перед тобою Крез, властитель мира?
Руки воина опустились, голова царская уцелела – двадцатилетний немой сын спас отца. Столько лет прожил бедняжка царевич, – и ни разу ни любовь родителей, ни их сострадание, ни страстное желание услышать его голос и тем сердце свое утолить, ни слава и величие, ни почет и власть, ни сокровища и богатства, ни любовь к миру и утехи его, ни приязнь и сладкая беседа стольких любимцев и друзей, ни гром небесный, ни сладостный напев потока или птиц пернатых за всю жизнь настолько не подействовали на его сердце, чтоб он издал хоть малейший звук, – но когда увидел он неминуемую смерть родителя, дорогого отца своего, сердце сбросило гробовую свою крышку, молчавший дотоле язык развязал свои путы, запечатленные его уста выговорили скорбь свою. Тоскующий отец, чья жизнь висела на волоске, услышал голос сына. При этом рассказе и ныне сердце слушающего загорается огнем, лишь только помыслит он, что сыновняя любовь так смогла разбить и сокрушить оковы, наложенные самой природой.
Тому уже не двадцать, а тридцать с лишним лет, дорогой мой родитель, возлюбленный народ мой, как сердце мое тоже загорелось огнем; горит оно и обращается в пепел; день и ночь слезы не покидают глаз моих, вздохи уст моих, – так жажду поведать вам, о друзья мои единокровные, мысль и заветное свое желание и лишь потом сойти в землю.
Что ни день, я воочию видел свою могилу, что ни час, огненный меч смерти вращался над моей головой; каждую минуту моей жизни ваше горюющее сердце сжигало и томило мое сердце, беспрестанно слышал я ваш сладостный голос, видел ваше радующее очи лицо, чувствовал вашу благородную мысль и волю, вкушал вашу чистую любовь и дружбу, размышлял об утраченной вашей славе и величии, о деяниях и жизни прежних великолепных царей наших и князей, о былых прелестях и чудесах милой родины, нашей священной земли, о несравненном нраве и подвигах доблестного народа армянского.
Вечно представал предо мною Масис, перстом указывал мне, какой страны я чадо; в мыслях моих вечно жив был рай, и во сне и наяву напоминавший мне о славе и величии нашей страны. Гайк, Вардан, Трдат, Просветитель говорили мне, что я их сын. Европа и Азия неустанно твердили мне, что я – дитя Гайка, внук Ноя, сын Эчмиадзина, обитатель рая. В поле или в церкви, вдали от дома или под кровлей, там, где ступала и ныне ступает нога моего народа, и камни словно хотели вырвать, извлечь из груди сердце мое.
Сколь часто при виде армянина хотел я последнее дыхание мое вырвать из груди и отдать ему.
Но увы! Язык мой был скован, а глаза отверзты; уста сомкнуты, а сердце глубоко; рука бессильна, а язык короток. Не было у меня казны, чтоб осуществить свои желания, не было и громкого имени, чтобы слово мое доходило куда следует. Книги же наши написаны на грабаре, а наш новый, живой язык не в почете, – и никак не мог я в словах выразить сердечную свою тоску. Приказывать я не мог, а ежели бы стал просить, умолять, никто бы моих слов не понял. А я ведь тоже хотел, чтобы надо мной не насмехались, не говорили, что я груб, глуп, что не сведущ в грамматике, в риторике, в логике. Я тоже хотел, чтоб говорили: «О как глубокомысленно, как мудрено умеет он излагать свои мысли, – сам черт ни слова не разберет, не поймет!..» Я тоже хотел показать себя, чтоб удивлялись мне, хвалили меня: я, мол, тоже дока в армянском языке!
Иные знают один язык – я знаю несколько. Немало разных книг начинал я переводить и не доводил до конца. А всяких стихотворений да сочинений на грабаре я столько сам выдумал, что они могут составить целую объемистую книгу.
Бог привел ко мне за это время нескольких детей, и мне пришлось обучать их грамоте. Сердце у меня разрывалось: какую бы армянскую книгу я ни давал им в руки, дети не понимали. Что ни начнут читать на русском, немецком, французском языке, все их невинным душам нравится. Нередко я готов был волосы на себе рвать, видя, что этим детям иностранные языки по душе больше, чем наш родной.