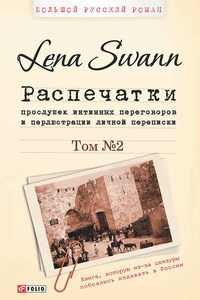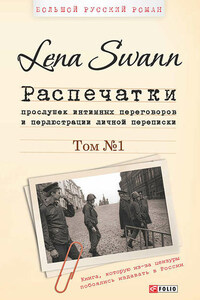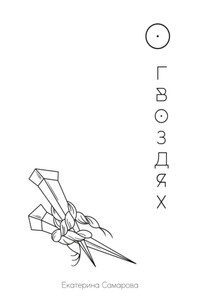I
Въехали в Мюнхен уже после полудня, и как-то неожиданно. Вдвинулись легко, как длинный выдвижной ящик в распахнутый прозрачный дребезжащий сервант вокзала. В котором явно хранилось что-то съестное. Что-то десертное. Судя по запаху, врывавшемуся в открытые до предела фрамуги вагонных рам – свежеиспеченные булочки.
– Не исключено, что со сладким творогом, – пробубнил с ученым видом Воздвиженский, смешно поддергивая по полукругу носом и, смакуя, поджимая пухлые свои губы – высунувшись, рядом с Еленой, в окно. – Ватрушки, короче. Да, да. Точно. С очень сладким творогом.
Ей было лень с ним спорить. Хотя у нее у самой не было на этот счет ни малейших сомнений: это сдобные булочки с горячим повидлом внутри. А никакие не ватрушки.
Как только вагонная хлябь под ногами сделалась твердью, в ту же секунду, вместе с захватывающей дух легкостью ощущения материализовавшегося чуда – Мюнхен! Заграница! Свобода! – в Елене вновь во весь рост поднялся ужас – истошный, и не менее реальный, чем внезапно выросший вокруг вокзал и город – ужас перед всякой неотвратимой технической мелкой дрянью, которая вот-вот сейчас вот уже, через пару минут на нее нагрянет: как они сейчас будут выходить из вагона? А вдруг Воздвиженский схватится понести ее сумку? Или еще чего хуже, подставит ей руку на выходе, ну или еще какая-нибудь пошлость? В панике, но стараясь как можно реже пинать попутчиков, сосредоточенно возящихся на полу с молниями и кнопками, и пытающихся насильно накормить жирными съестными объедками свой и без того уже обожравшейся одеждой багаж, Елена молча, сжав зубы, выгнала пендалями свою сумку сперва вон из купе, – затем провела пять метров жестокой и нечестной корриды против стреноженных и пыхтящих корячащихся существ вдоль по коридору в тамбур, – а там уже, рванув огромный рыжий рычаг на двери (больно бодавшийся, если не успеть вовремя отскочить, точно как локоть нетерпеливых сограждан, и мстительно сложившийся на прощание при открытии в соответствующую образу неприличную фигуру с закавыкой) – она резко, на последнем дыхании поддала голенью ускорения своему нейлоновому спортивному баулу, – тот с живым, неожиданно кожаным, стуком первым рухнул на мюнхенский перрон, – и сиганула следом за багажом.
Приземлившись, Елена, в секунду позабыв про весь мрачно маячивший в самых страшных ее ожиданиях всего миг назад мещанский кошмар, хлопнулась прямо здесь же задом на сумку, как на диван (хотя и неудобно уменьшенный), примяла его хорошенько, и, выделав, наконец, сносное гнездо, откинулась, задрала голову – и с наслаждением обнаружила себя в огромном воздушном аквариуме для голубей, которые вели себя так, что не оставалось никаких сомнений, для чьих, собственно, путей сообщения это здание построено: синхронно и грациозно промахивали навстречу друг другу между сводами и перемычками и ритмично (и, вполне вероятно – по расписанию) прокладывали невидимые воздушные рельсы между всеми вертикальными измерениями и плоскостями вокзала.
В полсотне метров от нее, прямо во внутренностях вокзала как мираж разражался целый город из сверкающих душистых лавочек (с развешенными на стенах, как геральдика, тригонометричными кренделями, блестевшими бриллиантовой солью крупной огранки, и стократно рифмовавшимися в зеркальцах и в зыркающих восьмерках модных очков в аптеке напротив, заваленной горами леденцов в светящихся и танцующих вокруг своей оси стеклянных ульях при входе, и из-за этого похожей больше на кондитерскую) и дальше – десятками как-то невероятно перетекавших из одного жанра в другой – вслед за ее взглядом – кафе, конфетными эрмитажами и фруктовым антиквариатом – и все это зримое, вот здесь вот, на расстоянии обонятельной пробы воздуха, за стеклянными прозрачными стенками и с настежь распахнутыми ноздрями, то есть, дверями, обещавшими какие-то несметные радости россыпей сытного света, и ярких запахов, и смеющихся своему неведомому счастью незнакомых людей рядом.
Взвесив и распробовав небывалые ароматы, все то, что свербело в носу, все то, что было «пред-вкушаемо» в буквальном смысле («Запах – это же ведь просто сильно растворенный в воздухе вкус», – нетерпеливо внушала она себе сама под нос), мысленно исследуя все те обаятельные веяния, все те разлетевшиеся как в невесомости аппетитные частицы, что требовали скорей найти первоисточник в пространстве, она вдруг почувствовала, что главная и самая тревожащая – потому что теоретически невозможная – нота в этой вокзальной обонятельной какофонии – несъедобна, что проникает она снаружи, из-под распахнутых навстречу городу пазух станционной кровли, – и что это – невероятный, не-по-московски, не-по-мартовски, внятный, настойчивый и самоуверенный, диктующий себя всем остальным, кулинарным, прикладным, местечковым, младшим ароматам, как основной ингредиент: запах жаркой весны.
Елена стянула с себя, блаженно, будто душный кокон, зимнюю стеганую куртку: «Невообразимо! Первое, самое первое, марта. Выезжали из Москвы, из зимы, из февраля, из грязного, безвидного, узаконенного календарем бесстыжего месива снега перед Белорусским вокзалом. И вот уже хочется раздеться до футболки!»
Она вдруг с ознобом, как о дурном болезненном сне, вновь, вмиг, вспомнила во всех деталях о последней ночи, о чужом, смурном, грубом, вечно всем недовольном человеке, которого она почему-то, ни с того ни с сего, взялась приручать – и сразу до дрожи, до оторопи, до судороги, испугалась, что вся эта весна сейчас сгинет – по ее грехам. Зажмурилась на пару секунд – и с ужасом разжала веки.
Весна, однако, никуда не исчезла.
Вокзал тоже не развеялся – оставался огромной сияющей солнечной печью, где выпекались все эти съестные запахи – а жар все-таки исходил снаружи. Неопровержимое солнце без всяких компромиссов врывалось и, властно, разом, со всех сторон, заполняло собой внутренние воздушные полости – сквозь все доступные периферийные дыры, окна и прорехи – и, как дирижер, заставляло звучать в нужном ритме и нужной последовательности все сгрудившиеся здесь, как в угловатой гигантской оркестровой яме, подручные инструменты: и ослепленные бликами лбы позвоночных полозов поездов; и ударные лучистые бакалейные лавочки, непрестанно скачущие и пляшущие туда-сюда за прозрачными заламинированными солнцем дыц-дыц-дыц, дыц-дыц дверцами; и блёсткие едальни с залакированными посетителями, мерно и с удовольствием поигрывающими смычками ножей на персональных своих солнечных тарелках, имеющих обязательную зыблющуюся, перекатывающуюся, переливающуюся, медовую пару на потолках; и все, все, все эти бесконечные кружащиеся и голосящие в хоре фруктово-цветочно-мороженно-сладко-жаркие сладостно сладкоежно творожно повидловые магазинчики, на волнистых струнах почти невидимых стеклянных стен которых солнечный свет играл как на арфах, заглушая электрические ватты в общем-то ненужных, избыточных, подстраховочных их люминесцентных рамп, которые Елена, обманутая слепящей глаза яркостью взвеси, в первым момент по ошибке приняла было за основной источник торжества; и – наконец, как последний изыск – как на крошечной портативной перкуссии – играло солнце на правом хромированном колечке крепления хлястика рубином разгоревшейся ее нейлоновой сумки: из него, из крошечного этого хромированного колечка (Елена любовалась им теперь чуть дыша, боясь шевельнуться и спугнуть чудо, с тайным чувством незаслуженно свалившегося на ее «диван» богатства) яркий луч высекал такие звенящие брызги и искры, что ослепли бы даже те сварщики в космических касках с затемненными намордниками, мимо костров которых на вечно перерытых канавами улицах Москвы Анастасия Савельевна в детстве проводила ее за руку с благоговейным, даже суеверным каким-то ужасом (каждый раз повторяя одно и то же: «Не смотри, доча. Отвернись. Нельзя смотреть, когда так ярко. Ослепнуть можно»); и – в довершение, когда Елена, в изнеможении от всего этого светопредставления, вновь откинулась спиной плашмя на сумку, задрав лицо кверху, воздух разрешился финальным аккордом над ее головой – более чем уместными (над всем этим вдохновенным вокзальным солнечным концертом-солярием) шквальными аплодисментами крыльев пепельных голубей.