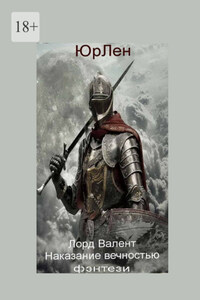Солнце – мягкое, осеннее – светило в полураскрытые шторы. На столе стояла музыкальная шкатулка и играла еле слышно. Балерина внутри шкатулки поворачивалась чуть, на четверть оборота, как если бы пружина не разворачивалась до конца.
Посреди комнаты девушка, тонкая и прямая, легко, будто паря в воздухе, крутила фуэте. Музыка закончилась, и девушка остановилась. Лет шестнадцать, русые волосы до плеч, черная туника, черные кроссовки, глаза серые, большие, в длинных ресницах, и выстриженная под ноль челка.
– Мамаши в ней души не чают. А балеринка крутилась раньше что твой вечный двигатель. Ну или поменьше… И у меня был другой хвост! Хвост открывал эту шкатулку, – сказала механическая Мышь.
Она, старый Пьеро и Кубок за окончание школы номер тридцать пять смотрели в открытую дверь из детской, с полки книжного шкафа, стоявшего в глубине комнаты.
Механическая Мышь была маленькой, с ладонь, железяка железякой, обтянутая серым мехом, с хвостом из белого шнурка.
От Пьеро в Пьеро остались только черная слеза на щеке да еще его тряпичность и мягкость, а щеголял он в бандане и джинсах.
Кубок походил на букву «ф» и высился над своими соседями медным несуразным истуканом, он по большей части молчал. Мышь же все говорила:
– Никуша открутила мой прежний хвост и сделала вот этот. Ей казалось, что прежний, крючком, сломался и, конечно, очень болел.
– Неужели Ника не сообразила, что это ключ? – воспротивился Кубок.
Про хвост он не знал. Кубок считал себя среди вещей Ники главным, потому что он ей напоминал о первой любви – Волынцеве. Мышь всего лишь напоминала о сломанной шкатулке, а Пьеро иногда, в самые трудные минуты, говорил что-нибудь вроде: «Ты самая-самая…».
– Ей тогда было около трех лет, хоть и выглядела она точно так же, как сейчас. Кира Ивановна, первая мама, – говорила Мышь, возвысив голос, как экскурсовод, подведя группу туристов к серьге с раскопок становища древних хазаров, – тогда побоялась отдать шкатулку и оставила ее у себя. А Ника нашла-таки и уронила. Балеринка отломилась, ее приклеили, но это не помогло. И Ника придумала танец для мамы. Она была тогда смешная и неумеха.
– Она всегда была самая-самая! Красивая! – буркнул Пьеро, не поднимая головы.
И радостно вскинулся, лишь только Ника появилась на пороге детской. Она подошла к шкафу, достала Мышь, Пьеро и Кубок, сложила их в рюкзак.
– У нас есть работа? – успела крикнуть любопытная Мышь.
– Меня опять берут в семью, Мыша, – ответила Ника. Ее глаза пробежали по корешкам книг, по фотографиям. – Сюда мы придем, как всегда, через год, на день рождения мамы.
И усмехнулась. Она опять разговаривала с Мышью. Нина Леонидовна, третья мама, поначалу ворчала:
– Ты же, дочь, нормальный искин, красавица, а нормальные искины сами с собой не разговаривают.
Первая мама говорила, что «иногда, когда очень одиноко, немножко можно».
«Я только немножко, мама», – отвечала Ника ей.
С третьей мамой Ника не спорила, лишь улыбалась. Потому что Нина Леонидовна не любила, когда спорят, сама спорила по этому поводу больше всего и была ужасно доброй.
– Спор – удел слабых. Сильные, спорь-не спорь, идут своей дорогой, – говорила она, шумно крутясь по маленькой кухне, жаря себе яичницу из искусственных яиц, варя искусственный кофе. – Ни разу не видела, чтобы кто-то кого-то убедил в споре. Мы теперь по каждому поводу препираемся и голосуем! А что толку? Это не вопрос, я тебя умоляю! Почему ты молчишь, Никуша?
Ника сидела за кухонным столом и меняла блок памяти мыши. Она ловко сняла малюсенькую пластиночку, вставила горошину-модуль, закрыла. Оставила мышь в покое, поправив ей тощий хвост, и улыбнулась:
– Мам, я придумала новую куклу. Мальчишка. Ты сошьешь ему одежду и нарисуешь лицо, у него будут грустные глаза. Он будет ходить на шаре и держать руки в карманах…
Нина Леонидовна застыла с прихваткой и автосковородкой в руке. Сковородка продолжала жарить, и запахло паленой синтетикой. Но Нина Леонидовна восторженно смотрела в потолок, на потолке мелькали блики от кипевшей воды в стеклянном чайнике.
– Да, уже вижу его! – воскликнула она. Ее полное лицо осветилось улыбкой. – Но почему же глаза грустные?
– Так просто.
– Ну хорошо, хорошо, мне он уже очень нравится, этот мальчишка с руками в карманах. А он не упадет?
– Нет, это уже моя забота, – рассмеялась Ника.
– Ох, опять сожгла, эти яйца очень даже ничего, если их не сжечь. Ну какая же я растяпа!
Ника была рада, что мама опять улыбается. Она быстро забывала все, что так долго говорила; она и правда не умела спорить, перескакивала с одного на другое, чувствовала себя виноватой, что все-таки смешно и непоследовательно спорит. Мама успокоится, и они опять будут в мастерской шить кукол, собак, строить шагающие мельницы. У Нины Леонидовны был свой небольшой магазин. Она шила кукол, но их покупали мало. Однажды она решила, что сойдет с ума от одиночества в своем магазине.
– Знаешь, подумала, вот буду шить, шить, улыбаться своим куклам, разговаривать с ними и не замечу, что сошла с ума. Я думаю, так жить нельзя, Ника, как я рада, что ты у меня есть, – прошептала однажды Нина Леонидовна, схватив Нику за руку, и вдруг расплакалась.
Это был восьмой год жизни Ники у третьей мамы. Вскоре Нина Леонидовна умерла, ей было семьдесят пять лет, люди долго не живут. И Нике нашли другую семью.
– Никогда бы не подумал, что она может так сказать. Казалось, все шумит и шумит, а поди ж ты… – задумчиво потом сказал Михаил Сергеевич, техподдержка.
Ему часто приходилось выслушивать беспокойные тирады Нины Леонидовны обо всем: о мироустройстве, о климате, о бродячих вирусах, о здоровье Ники. Про свое здоровье она никогда не говорила, считала это тем, что нельзя изменить, здоровье – оно или есть, или нет…
Ника улыбнулась – Пьеро что-то вещал из рюкзака тихим голосом. Он всегда говорил, когда долго молчали. Было не слышно что, но стало легко, как если бы Волынцев оказался сейчас рядом, потащил ее рюкзак и болтал бы всякую ерунду. Волынцеву теперь было бы сто пять лет.
– Кто-нибудь когда-нибудь вспомнит, что тебе тоже нужен отдых?! – возмутился Кубок.
Ника надела куртку и ушла…
Листья падали, накрапывал дождь. В шорохах шагов, шепоте листьев и дождя слышались голоса, продолжались разговоры. Сходила за хлебом… Выключила свет… Спокойной ночи, мама… Здравствуй… Я люблю тебя… Ты где сейчас, Волынцев? Я приду… Ну что поделаешь, я не умею любить… Она их всех помнила, прокручивала вот так иногда слова и фразы. Странное дело, ей их не хватало. Так скучают? Но искины не скучают. Скучают люди. Сначала борются за принципы, потом борются с одиночеством, потом опять за принципы, иногда принципы совпадают, но жизнь – такая штука, от которой умирают, все равно приходится бороться с одиночеством.