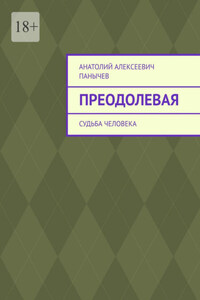Когда, с каких лет на моём «белом листе» юной человеческой души начали проявляться «письмена», начертанные генной памятью?
Строчки из дневника в тринадцать лет:
«Весь день падает и падает густой снег. Очень красиво, но на улицу я не пошла, а сижу на печке, слушаю по радио музыку и пишу эти строчки. Улей стоит у нас в доме, брат осмотрел пчёл и оказалось, что половина их вымерла. Как жалко! Все лето они собирали мед, гибли в дождь, пропадали в полетах, а мы этот мед у них отняли и вот они погибли от голода. Мама собирается поставить погибшим пчелкам свечку, а мне перед оставшимися даже стыдно, ведь к нам относится цитата Радищева: «Они работают, а вы их труд ядите».
Значит, загорание моего внутреннего света началось в пору смены поры безмятежного отрочества на первые годы юности, которая станет навевать обещания неких радостных, еще расплывчатых «деяний». И дальнейшее преображение моё зависело от тех «семян», которые были заронены теми, кто был рядом, – старшим братом Виктором, мамой, – и если бы тогда погибших пчёлок она просто смела и выбросила, то что осталось бы в моей душе?
А вот уже – подсказка памяти:
Я лежу на печке и с упоением читаю роман «Кавалер золотой звезды»… Удивительно, но отчётливо запомнилось, что именно роман этого, прославленного тогда писателя Семена Бабаевского. Так вот, с увлечением читаю, но входит брат, спрашивает: что за книга? Показываю. А он выхватывает её и бросает в печку. Я – в слёзы! Но он даже и утешать не стал, а только сказал: «Никогда не забивай голову барахлом». И ведь это «семя» тоже проросло, – научилась с помощью Виктора ориентироваться в книгах, выбирая то, что подсказывало не облыжную дорогу жизни. Потом была суверенная «лестница» вверх, с которой открывалась удивительная бесконечность мира, и взбираясь по ней, надо было выбирать крепкую, надежную «ступеньку», чтобы не сорваться вниз.
Когда по утрам слышу редкие удары большого колокола вновь возведённого кафедрального собора, а потом начинают петь-распеваться и другие…
Мурашки – от этого всепроникающего звона!
Почему? Ведь и крещены в православную веру, но не проросла она в нас ритуалами, и детей к максимам православия не приобщали, – каток социалистического атеизма прошелся и по нашим душим, – но всё же под религиозные праздники у нашей единственной иконы «Марии с младенцем» всегда горела свеча.
А вручил нам Богородицу председатель колхоза, – непозволительно было коммунисту держать такое в доме, – а ему Мадонну отдал сельчанин, выловивший символ Православия из реки, ибо тогда, при Хрущеве1, шло очередное наступление на религию и кто-то, испугавшись, спустил «Марию с младенцем» по течению.
Так вот, горела у нас перед иконой Богоматери свеча, пахло моими свежими булочками… И этот дивный, ни с чем несравнимый аромат только что испеченных булок, живёт во мне с детства, он – моя радующая память.
Нас у мамы было трое, – овдовела сразу после войны2, – и поднимала детей одна, так что, жили мы часто впроголодь, но она всегда сберегала мучичку, – иначе её не называла, – чтобы к Рождеству испечь булки, и вот…
В хате еще темно, но я просыпаюсь от их запаха. Ах, как же радостно ощущать и тепло, исходящее от большого, выбеленного под праздник тела печки, и аромат только что выпеченного лакомства! А еще, – знала я и ждала! – вот-вот от порога донесутся голоса ребятишек, славящих Христа, и от их сбивчивого торопливого лепета с привычным окончанием: «Тётенька, дяденька, с праздником вас, с Рождеством Христовым!» во мне на весь день поселится непонятное (что причиной?), но неизменно светлое чувство.
Мама рассказывала:
«Спрашиваешь, когда церкви громить начали?.. Да их закрывать и рушить стали прямо после Ленина3, когда он до власти добрался, а уж с конца двадцатых так с ними стали расправляться, что только пыль столбом стояла. Помню, раз приехала я в Карачев, гляжу… Казанскую церковь ломають! Ту самую, в которую купец Кочергин электричество провел. Ах, какая же эта светлая и праздничная церковь была, и вот теперя кырками её рушуть. И всё – молодые, комсомольцы! А потоми за Тихоны взялись… И по-ошли, и пошли! Тут уже громили беспощадно, только и слышишь, бывало: там-то церковь ломають, там-то… А мало ли в Карачеве церквей было! Церквей двенадцать, должно: Казанская, Знаменье, Никола, Евсеевская, Кладбищенская, Афонасьевская, Преображение… Вот и не стало слышно звона колокольного над Карачевом, колокола все посняли и увезли.
Всё-ё теперь молодежь упрекають, что стариков, мол, не уважаить. А они-то нешто уважали? Ведь всё поразломали, поуничтожили, что их деды построили! Вот и религию… Ну зачем было трогать? Деды, прадеды молилися, пускай бы, и дети… Ведь вера в Бога приучаить человека, чтобы он не только о себе думал, но и другому зла не делал. И с малых лет это надо в души чистые закладывать, вот тогда-то она, душа человеческая, и привыкнить к добру, пока не зачерствела. Видишь, как дети встречають меня, когда подойду к ним перед сном? «Бабушка, перекрести нас!» Значить, чувствують что-то, значить, ребенку приятное есть в том, что говорю: Господи, да дай же ты им здоровьица, да дай же ты им ума-разума, помилуй и сохрани ото всяких бед и напастей! Спите с Богом. Скажу вот так, перекрешшу… и заснуть. И с таким-то настроением хорошим!»
Вот потому под Рождество у нашей единственной иконы и горела свеча, что драгоценное зерно, заронённое генной памятью и мамой в наши души, всё же взошло, ориентируя в бесконечном пространстве жизни. А потом захотелось и детям вложить похожее: Христос – символ добра, сострадания, прощения, – духовности; его – Христа (добро) – распинают, а он (добро) воскресает; только добром можно защититься и защитить, а если в душе его нет, то – темнота, злом заполняемая.
Семена, некогда заронённые в наши души – та же эстафета памяти. Как в спешных буднях не потушить «факел» добра и веры, когда и какими поступками своими передать детям то, что понесут дальше? Сие зависит от нас.