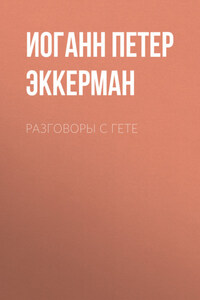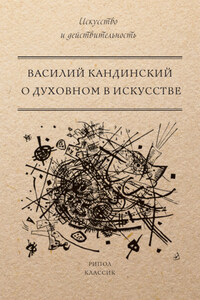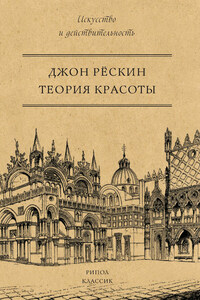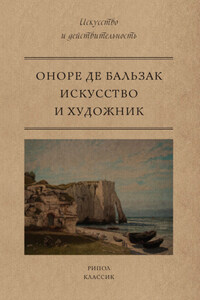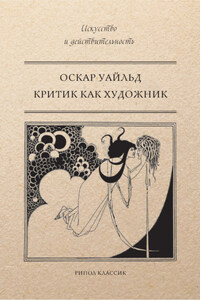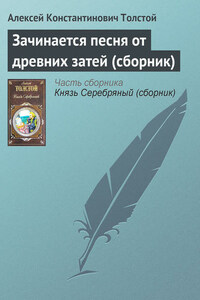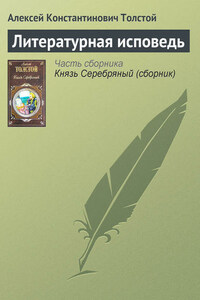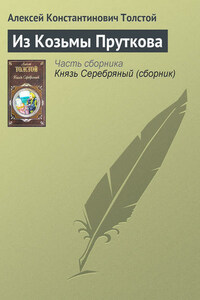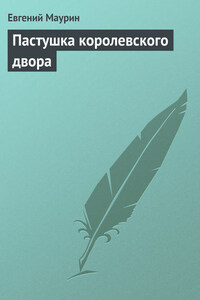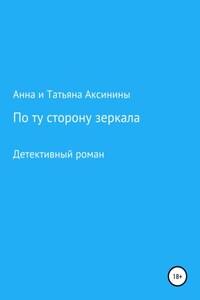Десятилетие заката: Гёте в разговорах с Эккерманом
Томас Манн в романе «Лотта в Веймаре», наверное, самой известной прозе о великом Гёте, замечает, что почитатель свойств цвета, создатель «Учения о цвете», любил черные силуэты. Такое увлечение чужим увлечением, как изображает Манн, не было простым капризом гения: в силуэтах Гёте ценил «всю прелесть искусства ножниц», иначе говоря, ту стремительность рук, которая позволяет надолго запечатлеть образ человека как неминуемый след его присутствия.
Таким пространным силуэтом и стала книга «Разговоры с Гёте» И.-П. Эккермана. Понадобилось лишь заменить мелькание ножниц бойким пером молодого литератора, а монотонный след обернулся плотным сгущением духа целых эпох, вдруг счастливо встретившихся в 1823 г. Гёте был старцем, уже помышлявшим о смерти, и во всяком смысле, избравший уже смерть одной из мер своего творчества, и конечно, он честно думал о завещании. Но если для завещания имущества достаточно нотариуса, то чтобы завещать свои идеи, требуется живое участие множества острых умов. Эккерман, может быть, и не был слишком остроумен, но он всегда торопился показывать свои произведения мастеру, рассказывать свои мысли и даже делиться сокровенным, – но благодаря природной добросовестности он не раздражал такой спешностью, а наоборот, легче всех завоевывал собеседников. Поэтому его книга – это победы над лучшими свидетелями жизни Гёте, пусть даже эти свидетели – не живые люди, а книги и спектакли.
Неполное десятилетие до кончины поэта, которое Эккерман вел свои записи, возвращаясь к ним, обрабатывая и вписывая в литературное хозяйство, которым он занимался как секретарь и редактор, было не просто «непростым» для Европы – ни годами раньше, ни позже явно не было проще. Это было то самое время, в котором железные дороги вышли из Англии на континент, одно за другим создавались государства Латинской Америки, были найдены останки первого динозавра. Столь разные события объединены одним – будущей непременностью: одна построенная дорога или одна находка повлечет за собой другие. Время дворцовых коллекций и дворцовых телеграфов прошло, и в раскатах революций и контрреволюций рождалось производство знания, приумножающего себя не только технологиями, но и изобретениями и находками. Книга Эккермана – ответ на этот вызов: знание, которое приумножает себя только величием.
Иоганн Петер Эккерман, несмотря на всю свою пламенность, довольно поздно вошел в литературный и научный мир, что необычно для эпохи ранних карьер и нескрываемых юношеских амбиций. Геттингенский университет, тот самый, где за год-два до него должен был учиться пушкинский Ленский, Эккерман закончил только в 30 лет, в 1822 г., да и то не получив диплома, слишком увлекла его литературная жизнь и горизонты, внезапно перед ним открывшиеся. Столь позднее созревание обязано скорее внешним обстоятельствам, чем внутренней потребности: Эккерман воевал добровольцем против Наполеона, но и после демобилизации остался для заработка трудиться в военной канцелярии Ганновера. Сам он желал стать живописцем и даже брал уроки живописи, но в Германии после наполеоновских войн слово ценилось больше холста. Когда выяснилось, что слово, устное, рукописное и тем более печатное, потрясает престолы и движет армиями, то мастерство в слове и стало означать принадлежность эпохе обновления.
Знакомство с Гёте, как часто это бывает, состоялось случайно: начинающий писатель показал мастеру свои опыты. Обычно такие встречи оборачиваются удачами и неудачами без всякого закона: мастера могут равнодушно пройти мимо значительных явлений в мировой литературе – и вовсе не потому, что они остались в своем времени. Просто ближе к старости писатель переосмысляет многие свои ранние труды и заботы, болезненно передумывает задуманное и уже выполненное много лет назад; и ни внимания, ни сил не хватает на необычное, оказавшееся рядом. Но Гёте не был равнодушен к известиям из мира молодых: во-первых, он считал себя законодателем и судьей, а плох судья, который не знает, чем живут люди, а во-вторых, молодые писатели готовы были извлечь для себя пользу из самого внимания к ним старших, даже мимолетного. Так поступил и Эккерман: доброжелательство Гёте стало для него поводом к расспросам и долгим беседам о том, как вообще искусство может расположить к себе и расположить нас к миру.
Сам Эккерман признавался в начале книги, что с детства пасший коров, он мечтал о призвании художника затем, чтобы несколькими верными штрихами передать живые впечатления сердца. Но встреча с Гёте его переменила: верность стала означать не решительность усилий, а открытое внимание, восприимчивое и в час труда, и в час досуга, а живые впечатления оказались не так важны в сравнении с жизненностью мыслей Гёте, требовавшего непосредственности воображения не только при решении текущих задач, но и при обращении с тяжелым и зачастую малоприятным наследием прошлого, которое приходится сознавать за собой и держать при себе.
Эккерман стал и первым признанным специалистом по Гёте. Специалист в литературоведении – это издатель сочинений, собиратель архива, при этом дотошный интерпретатор текстов. Эккерман, хотя и не принадлежал к братству филологов, обладал всеми надлежащими качествами. Он собрал от знакомых Гёте множество сведений о жизни поэта, десять лет издавал посмертные работы Гёте и в конце концов в 1840 г. выпустил полное собрание сочинений Гёте в 40 томах. Поэтому «Разговоры с Гёте» – это не только собрание мыслей великого человека, но и филологическая школа: Гёте всякий раз объяснял, куда движется литература, как замысел превращается в текст и какие обстоятельства мешают тексту состояться таким, каким он должен быть. Не спорьте, это не худшая, а лучшая филологическая школа, чем простой библиотечный разбор рукописей.
В предисловии к изданию «Разговоров», написанном через три с половиной года после кончины великого человека, Эккерман заметил, что предмет его рассказов – «мой Гёте». Это притяжательное выражение мы больше знаем по книге Цветаевой «Мой Пушкин», но при всем почтении Цветаевой к Гёте и Эккерману здесь вспыхивает различие. Для Цветаевой «мой» означает переживаемый с самого детства как необходимый, которого знаешь прежде, чем узнаешь, что ты поэт и что он поэт. Для Эккермана «мой Гёте» означает тот, кто хотя бы отчасти помог освободиться от индивидуальности, разрешил не привносить свои размышления, свои страсти и интересы в рассказ. Даже портретисты, давая верный образ поэта, добавляли свой темперамент к выражению своих полотен; что уж говорить о писателе, перо которого, медленно оно или торопливо, всегда заявит собственный характер. Но Эккерман научился тому, чему не научится живописец: писать не впечатления, а силу слов поэта. Силу не в смысле простой убедительности и выразительности, но в смысле готовности обсудить прямо сейчас вопрос, который и через много лет будет казаться насущнее всех прочих.