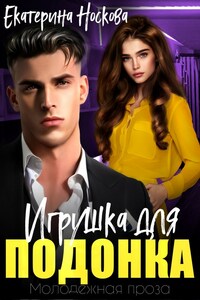"На дворе – трава, на траве – дрова…", – повторял про себя, словно завороженный, Карл Моисеевич.
Хотя на дворе была не трава, а 1917 год, а на дворе 1917 года вместо дров были великие события, которое должны были перевернуть жизни граждан страны. На каждом углу были развешаны флаги с лицом отнюдь не знакомого для Карла Моисеевича человека. Кажется, его звали Владимир Ульянов, и он был толи лицом, толи лидером нового для Российской империи движения, называемого социализмом, а может коммунизмом, а может и ещё каким-нибудь –измом, который не предвещал ничего хорошего для маленького человека.
Карл Моисеевич не очень любил политику и каждый раз, когда о ней начинали говорить в его присутствии, он глубоко уходил в себя, погружаясь в недра своего сознания, пытаясь найти там то, не зная что. Он не считал нужным разбираться, или же попросту интересоваться, бурно развивающейся ситуации в стране. Для него весь мир начинался и заканчивался на кончике его носа, который держал на себе потертые временем очки.
Вот и тогда, когда он тихо-мирно шёл себе по улице, направляясь по своим делам, мимо него, взявшись из неоткуда, словно маленький стихийный ураган несущий собой бедствие, пробежал мальчишка, не старше 13 лет, с кипой свежих газет с лицом все такого же Ульянова на первой странице. Парень выкрикивал какие-то осмысленные лозунги, которые, как показалось Карлу Моисеевичу, были совершенно не доведены до ума, а были использованы в зародышевом состоянии. Будто пулемёт, который вместо пуль, использовал бы расплавленный металл. Может быть струйки и долетали бы до врага, но вместо смертельной раны оставляли максимум ожог средней степени тяжести и шрамик на память.
Карл Моисеевич вновь надолго ушёл в себя и даже не заметил, как дошёл до кабака под названием "Понтий Пилат". Буква "А" в вывеске выгорела, и издали казалось, что заведение получило своё название в честь какого-то неизвестного пилота с диковинным именем, возможно хозяина заведения или его друга.
Карл Моисеевич быстро свернул с улицы, немного не доходя площади, на которой в очередной раз собиралась какая-то демонстрация, и шмыгнул в переулок. Дойдя до двери с надписью: "Людъская", он, немного не решительно, приоткрыл Ее и вошёл.
Оказавшись внутри, первым делом, ему в нос ударил сильный запах горелого лука вперемешку с запахом сырости, что уже давным-давно въелся в стены и никаким образом не хотел покидать обжитые пенаты. На кухне кабака жизнь, как ни странно, кипела и била масляными пузырями – гарсоны носились, как угорелые, прогибаясь от количества блюд на подносе; повара тут же жарили, варили, пекли, нарезали с молниеносной скоростью салаты, в том числе и лук, который моментально сгорал на раскалённых сковородах. Это было очень необычно в нынешней, тяжелой, ситуации в стране. В основном, когда Карл Моисеевич приходил сюда, он видел, как повара играли в карты с официантами, кто-то спал после внеочередной рабочей смены в трактире или еще где, а кто-то, в темном углу, попивал прикарманенный коньяк из погреба.
Карл Моисеевич ловко и, практически, не заметно, словно чёрная кошка, преодолел все преграды – набегающих волнами официантов и стоящих, как скалы, поваров и юркнул в коридор, ведущий в небольшой кабинетик. Только попав туда и закрыв за собой дверь, он, наконец, смог выдохнуть.
Кабинет был настолько маленьким, что мог показаться небольшим только для действительно небольшого человека. Окон в нем не было. Там стоял самодельный стол, на который с горем пополам помещалась счетная машинка, шкаф полностью забитый бумагами, в углу небольшой сейф, а под потолком висела одинокая лампочка. Если вам, по ошибке, хоть на миг представилось, что кабинет был хоть и маленький, но удобный, то вы ошиблись. Бумаги, что не помещались в шкаф, а таких было достаточно много, образовывали «горку» рядом со шкафом, «горку» в углу, «кучку» под столом и «грядку» у двери, неудобно подпирая ее таким образом, что войти в кабинет можно было только бочком, да и то предварительно втянув в себя все внутренние органы, что располагались за границей предпоследней дырки ремня. Единственной гордостью здесь, что действительно можно было и стоило оценить – была счётная машинка. Это была машинка фирмы Шиллер, последней модели. Аппарат – действительно достойный. Садясь за нее, Карл Моисеевич чувствовал себя, если не императором цифр, то точно его наместником. А если и не наместником императора, то уж генералом арифметических войск. Ну, может и не генералом, а скорее капитаном… В конце концов, в этом кабаке он был главным по цифрам.
Он неспешно снял пальто, положив его на гору бумаг в углу, затем шляпу, оголив практически лысую голову, и аккуратно сунул ее между полок шкафа. Но не успел он присесть за стол и с наслаждением опустить свои короткий указательный палец на клавишу Шиллера, которая в свою очередь должна была издать сладкий звук звякающих металлических механизмов, такой уж у них был договор – одно нажатие, один звук; и запустить мелодичную симфонию цифр, которая и не снилась Моцарту и Сальери, как дверь кабинета бесцеремонно открылась, оборвав ещё не начавшееся представление.
В щель двери просунулась чья-то голова:
– Ты пришёл? А мы то думали, что ты сегодня выходной? – сказала бесцеремонная голова.
– Пришёл… – хотел было ответить Карл Моисеевич, будто бы это было его первое слово, что зародилось в его голове за день. Каждая буква, составляющая слово, давала такую отдачу, что все мысли перемешивались, и слово приходилось составлять с самого начала.
– Сегодня на площади опять демонстрации. Народу – тьма! Весь кабак ломиться! Тебя на улице не задавили? – но, не дождавшись ответа бесцеремонная голова продолжила. – Сегодня народу необычно много. Это все из-за того, говорят…
– Эй, Петруха, хары балаболить! Тащи эти блюда гостям! Живее! – чей-то голос прервал на полу слове бесцеремонную голову, и та скрылась в проеме двери, забыв закрыть ее за собой.
Карл Моисеевич раздраженно уставился в проем. В нем теплилась кроха надежды, что произойдёт чудо, и Петруха вспомнит, что нужно закрывать за собой дверь, и вернётся. Но чудо не произошло. С той стороны двери доносился шум кухни и чуть слышный гомон общего зала. Карл Моисеевич ещё несколько секунд смотрел на дверь, затем резко встал, подошёл и захлопнул её. Как жаль, что щеколду несколько недель назад сорвали такие вот любители поболтать и заодно сунуть нос в чужие дела, как этот Петруха. А так как до этого кабинета никому и дела не было, щеколду никто и не торопился вешать обратно. Сам Карл Моисеевич, конечно, мог бы это сделать, дабы огородить себя от всяких бесцеремонных голов, но по одной из многих, известных только ему причин, этого не делал.