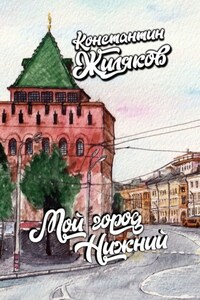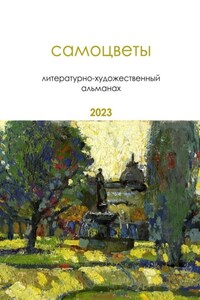За окном шёл снег. Начался февраль, и вдруг началась зима. За ночь чёрный мир стал белым. Сев за письменный стол, я ощутил сладкую, чудовищную тоску. Замысел кипел в голове, требуя воплощения. Я уже понимал, что начну писать роман, банальный, пошлый, глупый, честный, грубый, нелепый и убедительный, как сама жизнь. Фабула, стиль, композиция, своевременная тема – к чёрту всё это! Разве у человека нет других забот, кроме как выстраивать композицию своей жизни? Или продумывать сюжеты и характеры её героев? Соблюдать формат не им созданного произведения? Нет, нет и нет! Поэтому ещё раз к чёрту выдумки умников от профессии. Буду писать ради своего единственного судьи – своей совести.
Идёт снег? Так и напишу, что он идёт. Не надо ничего придумывать, всё уже было придумано до меня и уложено в композицию моей судьбы. Ведь и началось всё со снега. Мама вспоминала не раз, что родила меня в декабрьскую ночь, обильную снегом, первородным страхом и внезапным счастьем. Утопая по колено в пуховых сугробах, они с отцом добрались до роддома на самом краю района. Больница была крошечной и деревянной, с врачами, напоминавшими святых, готовых даже свои жизни отдать за пациентов. Может, это и были волхвы? А сквозь снежную пелену в небе горела какая-нибудь звезда?
Стоп. Вот и я начинаю уподобляться умникам, сочиняющим красивые и неправдоподобные сюжеты.
Просто тогда, на исходе декабря, перед самым Новым годом и прежним Рождеством, я появился на свет в старой Курьяновской больнице у железнодорожной станции Перерва и…
Ещё раз стоп. Это снова выдумки. Был снег, конец декабря, тревога и счастье. Только и всего. И никаких таких звёзд и прочего литературного реквизита. Снег стал моим крёстным по сюжету, выбранному судьбой. Оттого-то самую настоящую, сладкую и чудовищную тоску я переживаю в часы снегопада.
В то февральское утро, когда мир стал чёрно-белым, то есть шесть десятков лет спустя, опять пронизанный и напитанный тоской, я и взялся за этот роман-неформат.
Он никогда и нигде не будет напечатан. Он не имеет жанра, не соответствует требованиям современного литературного рынка, не отвечает запросам издателей. Он опоздал лет на тридцать. Так долго я к нему подбирался.
Ну и что? Мне неожиданно стало ясно, что каждый из людей рождён для своего счастья, просто мы порой не понимаем, как оно выглядит. Я понял, что мой роман и есть моё счастье. И нечего слушать свои сомнения, рождённые завистью к тем, чьи романы напечатаны.
Возможно, мой роман мог быть интереснее. Но он таков, каков его автор, пожилой мужчина, переживший внутри себя роды этого романа.
То есть вторичные роды самого себя.
Теперь у меня есть все «за» и нет ни одного довода «против» того, чтобы считать себя счастливым человеком.
Понимаете?
Вот он, этот роман. В нём нет красивостей, ложных сюжетных поворотов и нет ни одного слова неправды. Я также не придумывал героев, просто дал им другие имена, как и некоторым местам действия. Но они узнаваемы, реальны, так как тоже являются частью меня самого.
Убивать самого себя ложью нелепо и безобразно. Согласны?
Вот, пожалуй, и всё. Для пролога достаточно. Если прочитаете мой роман, забудете свои неудачи, потери, обиды и всё такое и задумаетесь над тем, что, может быть, они всё-таки и есть ваше настоящее, только вам принадлежащее счастье.
Кто вы такой, Павел Калужин?
Давайте выходить на свет!
Стоит июнь, курчав и юн.
В природе напряженье струн –
Всё ближе солнечный концерт.
Он поначалу ослепит,
Он оглушит и обожжёт,
Он ливнем золотистых нот
Омоет леденелый быт.
На крышах вырастут стихи.
Страницы прозы сквозь асфальт
Прорежутся и улетят,
Птицеподобны и легки.
И в небе, белом от жары,
Текущем светом вверх и вниз,
Как паганиньевский caprice
Взорвётся атомной игры
Нечеловеческий заряд.
Искусство город захлестнёт,
Сожмёт, разгладит, вновь сомнёт.
И вот уже стоят, молчат
Мужчины, женщины, авто,
Собаки, кошки, поезда,
Авиалайнеры, суда,
Вокзалы, паркинги, метро,
Остолбеневшая листва,
Мосты на медленной реке,
Заслушавшись в святой тоске
Щемящий голос божества.
Результат мало похож на замысел. Отчего? Какие тому причины? Неразрешимая и скорее всего приятная загадка жизни.
Какое-то время я верил в свои силы, но чем дальше, тем сомневался в себе всё больше и больше.
Выйдя из дверей Великолепного института кино, вдруг я почувствовал себя помолодевшим. В портфеле моём лежал диплом об окончании института и присвоении мне звания киносценариста. То, что я закончил заочное отделение, да ещё документального кино, было неважно. Реализовалась моя мечта, а что может быть прекраснее бреда молодого автора и его веры в свою исключительность?
Придя домой, я стал думать, кого собрать на праздничную вечеринку по поводу своей радости. Голова соображала плохо, в ней кипел бульон наслаждения. Я снял трубку и позвонил Ромке Розину, своему другу детства.
– Обмыть «корочки»? – взволнованно переспросил приятель. – Водка есть? Сейчас приеду.
На самом деле ничего подобного не было. То есть никому я даже не подумал звонить. За шесть лет учёбы в Великолепном институте вкус и запах мечты сошли на ноль. Ужасно, но идеал стал рутиной. Наверное, это естественный финал всякой многолетней, постепенно стареющей любви. Обманывать долго можно кого угодно, но не Ромео и Джульетту. Юность и зреющая физиология отличные индикаторы. Балконы и дуэли не только подстёгивают плоть и возбуждают трепет, но убивают ложь. Она – удел стариков. То есть к тому часу, когда мне вручили диплом сценариста, я состарился ровно настолько, чтобы расстаться со своей мечтой без единого горького вздоха и горькой слезы.
Мне было почти тридцать лет, и я понимал, что от кино я ещё дальше, чем был до поступления в Великолепный институт.
Диплом киносценариста был камнем, который мне пришло в голову самому повесить себе на шею. Я нёс его, вернее, глупую мечту о нём, долгих шесть лет, впав в глубокий творческий анабиоз. Сочинять и писать мне хотелось всё реже и реже. Кончилось дело тем, что я еле успел представить дипломную работу – сценарий полнометражного документального фильма – приёмной комиссии, состоявшей из ветеранов-орденоносцев Великолепного института и «шишек» тогда ещё совейского кинематографа.
Тайком и, как водится в этих случая для всех свидетелей происходящего, откровенно и нелепо сорокалетняя жена нашего мастера, кинорежиссёра Михал Михалыча Песочникова, подозревала во мне изменника десятой музе и молча, с ужасом ждала позора. Они впервые вели курс в институте и наивно делали на меня ставку как на молодого, многообещающего и свеженького кинописателя. А я к тому времени превратился в скучного и пошлого обывателя, ранее писавшего, а ныне про себя ухмылявшегося над теми, кто рвался в мир кино.