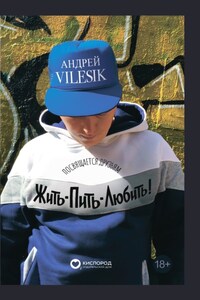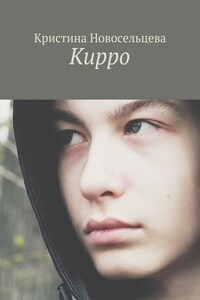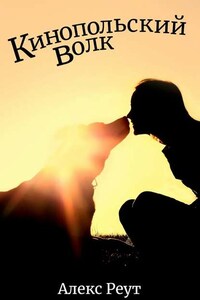То-то радость была оленеводам Докунею Кузьмичу и Лукерье Софроновне, когда они после двухмесячного кочевья с оленями по тайге вернулись домой – дочь Фёкла, пятый год вдовая, родила им внука. Приятную весть сообщила соседка Авда, позвавшая их на чаепитие к себе, пока у них натопится нахолодавшая изба.
Добродушная, флегматичная, улыбчивая Лукерья Софроновна вся просияла, как будто в неё закачали радость мехами. На её бронзовом лице с глубокими, словно вырезанными на морёном дереве, мимическими морщинами, контрастно сверкали белки глаз и крупные белые зубы.
– Мужик, па́ря дак! – торжествующе констатировал Докуней Кузьмич, мужчина телосложения тщедушного, бледный, с бескровными губами, но, несмотря на свой болезненный вид, общительный и смешливый. Он сейчас же хотел идти к Фёкле, живущей отсюда далековато, отдельным домом, смотреть своего долгожданного внука.
– Ты интересный, Докуней Кузьмич, – урезонила его Лукерья Софроновна густым гортанным басом. – Как без гостинцев пойдёшь? Сперва пушнину, поди-ка, сдать надо, потом в мангазин…
– Верно, Лукерья Софроновна, – охотно согласился с ней Докуней Кузьмич. – Обмывать внука будем!
Оленеводы степенно допили чай, попросили Авду досмотреть за печкой и, заложив добытую пушнину в мешок, пошагали по своим важным делам.
В магазине они простодушно дивились, сколько разных товаров появилось в последнее время на полках. Продавец, он же приёмщик пушнины, приезжий усатый мужик, весь изломался, предлагая купить то и другое. Пушнина ушла хорошо, и на покупки старики не скупились. В дополнение ко всему Докуней Кузьмич не преминул спросить для себя традиционную «калакушечку» – флакушку тройного одеколона, дань ушедшим сухим временам.
На пороге – в окошко увидела – их встречала малолетняя внучка Вика. Докуней Кузьмич понюхал ей волосы и показал пальцем на оттопыренный карман фуфайки, предусмотрительно набитый шишками кедрового стланика – это был его фирменный гостинец. Вика, как белочка, шустро выгребла шишки. Бабушка, также понюхав ей волосы, одарила её шоколадкой.
Фёкла, как всегда, была строгая, подтянутая, немногословная. Ребёнок спал в кроватке, затянутой марлевым пологом.
Старики, крадучись, точно боялись вспугнуть птичку, приблизились к ней, поочерёдно заглянули под полог. С выражением умиления на лицах удовлетворённо переглянулись между собой. И Докуней Кузьмич начал выгружать из мешка на стол вино и разные закуски, чтобы обмывать внука.
Знать, поведала Фёкла родителям, кто отец новорождённого, потому как дома, будучи в хорошем расположении духа, Докуней Кузьмич вдруг заявил:
– А давай, Лукерья Софроновна, пойдём к Петру Петровичу в гости? Родня мы теперь с ним, па́ря дак!
– Но-о… – неуверенно протянула Лукерья Софроновна и заулыбалась, сверкая зубами. – Неудобно как-то… Улияна Парфентемна ругаться будет…
– Шибко гордый или что ли? – обиделся Докуней Кузьмич, разом вскипая.
– Тогда гостинцы, поди-ка, надо, – надломилась Лукерья Софроновна. – Вали на стоянку колоть оленя – стегно мяса возьмём, раз уже в гости к Петру Петровичу… Коли Гладиатора, всё равно хромает. Он жирный.
– Одному почти что неохота…
– Одному неохота! Ты интересный… Кто стряпать улоны будет? Ты будто не слышал, Авда сказала, пекарню закрыли насовсем! Один не управишься или что ли?
Докуней Кузьмич не стал противиться доводам женщины и, захватив мешок, пошёл на стоянку, где у них стояла палатка и паслись оставленные олени, колоть хромого и жирного Гладиатора, а Лукерья Софроновна взялась замешивать тесто для улонов – пресных лепёшек.
Надо сказать, что за Докунеем Кузьмичём в подпитии водилась такая удача – не пропустить ни встречного кого, ни поперечного, чтобы не привязаться. При этом он готов был «влезть» человеку в лицо вместе со слюнями и соплями, сопровождая свои ужимки возгласами, скорее похожими на рыдания, – это означало изъявление душевного расположения и наилучших чувств. И если кто-то с брезгливостью отворачивался от него, он сильно обижался, высоко вскидывал голову, как бы желая разглядеть того человека издалека:
– Ты гляди-ка, гордый какой! – изрекал он. И добавлял несуразицу: – Госкромхоз Витимски… ребята-октябрята…
На этот раз навстречу ему шёл Эдик Комодыров, молодец, уверенный в себе на все сто и знающий, как ему быть в любых случаях жизни. Насвистывая мелодию, он направлялся за товаром к местной торговке.
Докуней Кузьмич подступил к Эдику.
– Что вам угодно, сэр? – надвинувшись вплотную, высоко подняв подбородок и глядя на Докунея Кузьмича сверху вниз, поинтересовался Эдик торжественно.
– Ребята-октябрята, госкромхоз Витимски…
– Тебе чего конкретно за пазуху надо? – Эдик поочерёдно наступил носками своих ботинок на носки докунеевых амчур. Приставив указательный палец, как пистолет к животу Докунея Кузьмича и сказав «Кыкх!», толкнул его; одновременно, качнувшись на пятках, отпустив его амчуры.
Всплеснув руками, Докуней Кузьмич с маху сел в снег, а Эдик Комодыров пошагал дальше за своим товаром, насвистывая все ту же самую мелодию.
– Сор! Ты сам негодный сор! – выбираясь из снега, бормотал Докуней Кузьмич. – Ты гляди-ка, гордый какой… Хвастун!
Напрочь позабыв, куда он направлялся, Докуней Кузьмич повернул домой.
– Как быстро! – порядочно удивилась ему Лукерья Софроновна. – Ты колол оленя, нет ли? Где мясо?
Докуней Кузьмич сказал, что у него болит брюхо, и потому ему надо пить калакушечку.
– Ты колол оленя, тебе говорю?!
– Почти что забыл…
– Господи горолей, ко́рокой, как ты забыл! Как ты без мяса пойдёшь к Улияне Парфентемне родниться? Пошёл оленя колоть – вернулся пить калакушечку! Стэрам твоя калакушка!
– Зато браво пахнет!
– Бэраво пахнет! Пей тогда вино, раз уже бурюхо болит…
– Они говорят, хлеб да соль надо… – увидев на столе свежеиспечённые улоны, сказал Докуней Кузьмич.
– Со-оль? – крайне изумилась Лукерья Софроновна. – Олени, или что ли – соль? Кто тебе говорил хлеб да соль?
– Почти что не знай… Хлеб да соль, говорят…
– Хлеб мангазинский, поди-ка, надо? Где я тебе возьму мангазинский хлеб!
– Это – не хлеб? – кивнул головой Докуней Кузьмич на стопку улонов.
– Тогда соли нету… Маленько было – я тесто посолил. К Фёкле ходили – надо было купить соль, я совсем забыл…
– Ладно, я сам скажу, что ты тесто посолил…
В это самое время Пётр Петрович, пребывая в благодушном настроении, возлежал на диване у себя дома, смотрел журналы «Крокодил», похохатывал, а Ульяна Парфентьевна стряпала его любимые морковные пирожки, довольная тем, что после охоты мужик не шарится по деревне с бутылкой в кармане, как некоторые другие… На всякий случай, чтобы Пётр Петрович не улизнул куда, толкнула его обутки под половицу. Она уже выгребла клюкой угли в чугунок – пирожки растронулись, и надо было первые листики садить в печь, как во дворе залаяла собака. Ульяна Парфентьевна выглянула в окно.