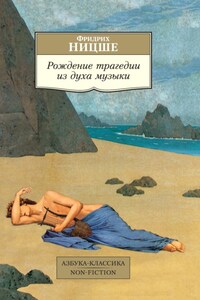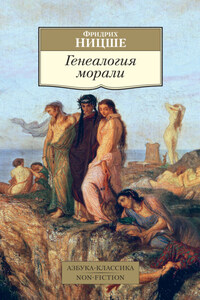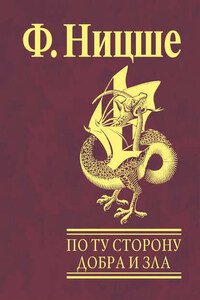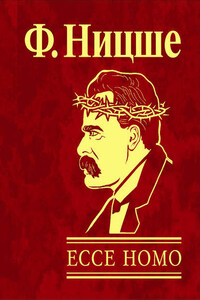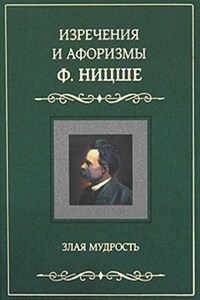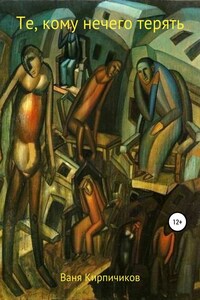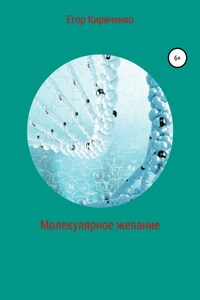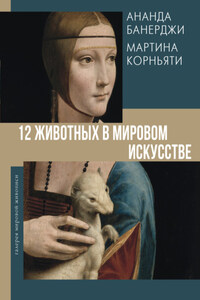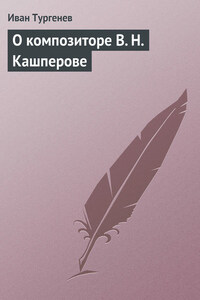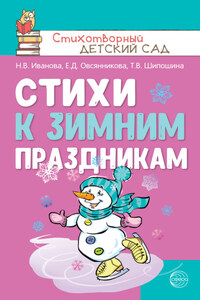Писать о Ницше трудно… – нет, не то слово, – мучительно трудно. Ибо это требует полной отдачи. Полной отдачи «энергетически». Если нет полной отдачи, то лучше вообще не писать о Ницше, лучше отойти в сторону… «Против» ты или «за» Ницше – какая разница? Главное не быть равнодушным. Может, даже лучше, если «против», ибо враг, если вспомнить Ницше, – это лучший друг. Друг, который успокоит, который утешит и поддержит, разве он подлинный друг? Друг – это вопрос перспективы. Друг – это тот, кто делает тебя и лучше, и сильнее, кто помогает твоему росту, кто превращает твое существование в борьбу с самим самой, в борьбу на пределе, кто помогает, заставляя переступать предел. С «точки зрения перспективы» враг – это подлинный друг, ибо подлинным другом, а значит, подлинным благом является для нас лишь тот, кто заставляет нас быть начеку, кто не дает передышки, кто вынуждает быть в постоянном напряжении. Сильное, напряженное «против» – это «за». Поэтому лучше ненавидеть Ницше, чем быть к нему равнодушным, поскольку равнодушие – это бессильное ничто, это усталость и леность духа.
Невозможно даже читать Ницше отстраненно и безжизненно, кабинетно-научно. Ницше затягивает и зачаровывает. С ним можно не соглашаться, даже не принимать его… Но, отвергая что-либо в Ницше, нельзя отринуть самое существенное в его жизни и творчестве – чистоту, бескомпромиссность, искренность, желание идти до конца, до предела. Путь Ницше – это путь к пределу, и не случайно, что, работая на пределе человеческих сил и возможностей, он дошел до этой опасной черты: десять лет безумия в конце жизни…
Следствие любого контакта с текстами Фридриха Ницше – все, что угодно, только не равнодушие. Все, что угодно, амплитуда довольно широкая: неприятие, отрицание, восторженность, злоба, боготворение. В этом отношении Ницше «заражает», ибо он сам – все, что угодно, только не равнодушие и угодливая всепростительность. Его тексты – один из которых ты, читатель, сейчас держишь в своих руках, – неудобны и колючи, ершисты, они «топорщатся» острыми «углами» и ранят ими читающего, и в этом они лишь повторяют «кровавую мистерию» жизни великого «ниспровергателя кумиров».
Да, тексты Ницше ранят. Но эта кровь – кровь самого Ницше. Ибо Ницше писал кровью. Любой его текст написан его кровью и его жизнью. И не по капле – одна, половинка, еще одна, – но целым потоком, тем потоком, который, выкачав из него все силы в предельном напряжении жизни и творчества, выбросил его на свалку «безумия».
Сказать, что Ницше недомогал, что он был слаб здоровьем, – ничего не сказать о тех постоянных муках, которые подчас приносило Ницше его существование. Боль не останавливала. Останавливала лишь непереносимая боль. Сам Ницше насчитывал до 200 дней в году, когда рвота, потеря зрения, нестерпимые головные боли делали из существования пытку, когда смерть казалась избавлением от мук. В редкие дни, недели, когда наступало улучшение, Ницше творил, творил самозабвенно, как истинный художник. Боль, возможно, заставляла ценить редкую возможность писать, и его тексты доносят до нас эту боль и борьбу с ней, они хранят борьбу за жизнь, борьбу за власть над собой, борьбу «вопреки»…
* * *
Трудно писать о Ницше еще и потому, что необходимо ответное напряжение. Ницше «зовет» к сотворчеству, и эта возможность сотворчества заражает и зачаровывает. Ницше, подобно водовороту, «затягивает», но «затягивает» читателя не только тем, что заставляет видеть мир его глазами, использовать его схемы, но и своей «допредельной» искренностью, а также тем, что заставляет видеть мир, а не «глазеть» на мир. Видеть – это всегда творение, это всегда со-творение.
Заметим, что важнее не то, что сказал Фридрих Ницше, но как он сказал. Это вопрос стиля. Вопрос темпа и искренности. То, что сказал Ницше всем своим творчеством, возможно, не так уж и ново. Если перечислить основные лейтмотивы его творчества, то мы, если и не поставим под сомнение его оригинальность, по крайней мере можем без труда «вписать» его в ту западноевропейскую традицию, на которую он яростно нападал, т. е. сделать из него «одного из». Один из известнейших мыслителей XX века Мартин Хайдеггер в своей работе «Европейский нигилизм» перечисляет пять рубрик, пять тем, наиболее значимых в работах Фридриха Ницше. Это – нигилизм, переоценка ценностей, воля к власти, вечное возвращение и сверхчеловек. Кстати, работа Мартина Хайдеггера – счастливое исключение из «научно-добротных» работ о немецком мыслителе. Ему удалось почти невозможное: рассуждать со свойственной немцам дотошностью о «певце Диониса» и быть ему конгениальным. Возможно, это произошло потому, что с Ницше Хайдеггер обращается как с дохлой собакой, которую, как известно, можно положить куда угодно, а именно вписывает «систему Ницше» в канву собственного видения движения западноевропейской мысли.
Можно добавить еще несколько сюжетов, чтобы адекватно и полно отразить самое существенное в творчестве «ниспровергателя кумиров»: антихристианство, Заратустра, ценностный перспективизм, аморализм и, конечно, ту сюжетную линию, которая представлена в «Рождении трагедии из духа музыки», а именно аполлоническое и дионисийское начала.
Итак, что сказано и как сказано немецким мыслителем. Вопрос новизны: насколько Ницше является новатором не только в как сказано, но и в что сказано. Если в отношении стиля, темпа, «энергетики» произведений Ницше мало кто сомневается в оригинальности, то в отношении «содержания», «смыслового наполнения» можно посомневаться. Так ли эти рубрики-темы новы по своему содержанию и по своей интенции? Может, прав упомянутый М. Хайдеггер, говоря о Ницше как о завершителе традиции европейской культуры, против бессилия и лживости которой он боролся? Завершитель – это не только тот, кто полагает предел, но и тот, кто все же находится «внутри», внутри традиции. Для этого мы затронем основные сюжеты его исследований, попутно отвечая на поставленный вопрос. Хотя, конечно, говорить о подлинном новаторстве, о подлинной оригинальности всегда нужно условно: что нового есть в этом старом, старом мире под древним солнцем и дряхлой луной?
Стоит сразу акцентировать следующий момент: все указанные рубрики-темы находятся в тесной взаимосвязи. Они не существуют изолированно, наподобие разделенной на столбцы таблицы. Все темы «ссылаются» друг на друга, образуя причудливый интеллектуальный хоровод или, другими словами, некий линкованный гипертекст: говорить о переоценке ценностей невозможно без упоминания воли к власти, сверхчеловека или нигилизма. В свою очередь, при анализе темы сверхчеловека нельзя не затронуть тематику воли к власти или переоценки ценностей и т. д.