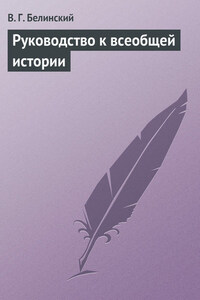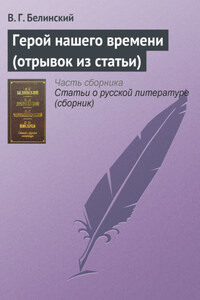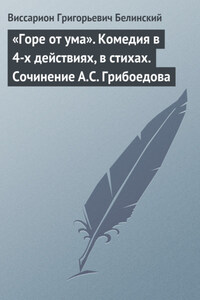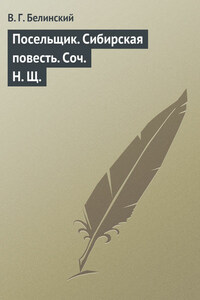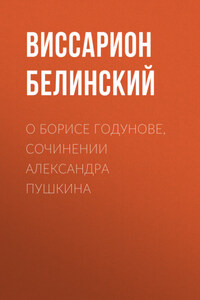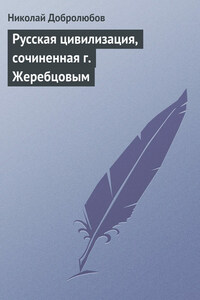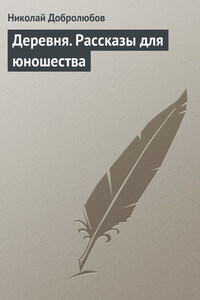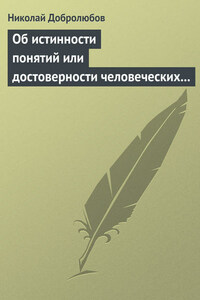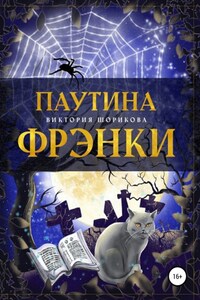Век наш – по преимуществу исторический век. Историческое созерцание могущественно и неотразимо проникло собою все сферы современного сознания. История сделалась теперь как бы общим основанием и единственным условием всякого живого знания: без нее стало невозможно постижение ни искусства, ни философии. Мало того: само искусство теперь сделалось по преимуществу историческим: исторический роман и историческая драма интересуют теперь всех и каждого больше, чем произведения в том же роде, принадлежащие к сфере чистого вымысла. Люди ограниченные никак не могут примирить, в своем сухом и узком понятии, свободного вымысла фантазии с историческою действительностию, – и некоторые из них, с свойственным невежеству простодушием, громко, во всеуслышание, издеваются над историческим романом, как над нелепостью{1}, которая оскорбляет здравый смысл и помрачает славу гения шотландского романиста: в слепоте своей эти жалкие умники не видят, что все величие гения Вальтера Скотта именно в том и состоит, что он был органом и провозвестником века, давши искусству историческое направление{2}. Упадок живописи в наше время происходит совсем не оттого, чтоб это искусство исчерпало все свое содержание и отжило свой век: нет, содержание всякого искусства есть действительность, следственно, оно неисчерпаемо и неистощимо, как сама действительность… Можно утверждать с большим основанием, что живопись не умерла, а только обессилела в наше время, стараясь держаться старых преданий, идти по следам, раз и будто бы навсегда продолженным великими мастерами средних веков, силясь остановиться в сфере некогда могущественных и великих, но теперь уже мертвых интересов и не делаясь искусством по преимуществу историческим. Да, только в исторической живописи могут являться теперь великие творцы, ибо только историческая действительность может теперь дать живописи и живое содержание и современный интерес… Таково влияние истории на современное искусство!
В знании историческое созерцание едва ли еще не больше заметно. Давно ли эстетика шла своим особым путем, не спрашиваясь у истории, не соприкасаясь с нею? Еще и теперь многие добрые люди, повторяя чужие зады, пренаивно уверяют, что искусство само по себе, а жизнь сама по себе, что между тем и другою нет ничего общего и что искусство унизилось бы, снизойдя до современных интересов{3}. Действительно, если под «современными интересами» разуметь моды, биржевой курс, сплетни и мелочи света, то искусство играло бы слишком жалкую роль, если б унизилось до симпатии к таким «современным интересам». Так и было с искусством во Франции, когда оно заставляло греческих и римских героев выражать современные дворские сплетни. Нет, не то разумеется под историческим направлением искусства: это или современный взгляд на прошедшее, или мысль века, скорбная дума, или светлая радость времени; это не интересы сословия, но интересы общества; не интересы государства, но интересы человечества; словом, это общее, в идеальном и возвышенном значении слова… Мы теперь знаем уже, что искусство, как выражение сознания того или другого народа и целого человечества в известную эпоху, – есть как бы биение пульса его жизни, а потому и развитие и история искусства тесно связаны с развитием и историею народа или человечества. Вследствие этого мы теперь знаем, что у новейших народов Европы, с тех времен, когда они познакомились с древними литературами, не могло, да и никогда не может быть эпопеи вроде «Илиады» и «Одиссеи» и что «Освобожденный Иерусалим», «Потерянный рай», «Мессиада»{4} и т. п. суть произведения людей даровитых, но отнюдь не гениальных, – произведения блестящие, но в то же время и ложные… Мы теперь знаем, что сатира не есть осмеяние пороков для исправления нравов, но что это есть высший суд над падшим обществом, его предсмертный, раздирающий душу вопль, и что Персии и Ювеналы явились в римской литературе не случайно, а необходимо, и притом в самую пору, так что ранее не могли явиться… Мы теперь знаем, что роман и драма должны преобладать, в наше время, над всеми другими родами поэзии, как наиболее приличные и способные формы для выражения современной действительности. Мы теперь знаем, что поэты нашей эпохи не могут быть ни классиками, ни романтиками, но что в их произведениях должны заключаться и классицизм и романтизм, как прошедшее заключается в настоящем. И все это мы потому знаем, что знаем законы развития духа человеческого в истории…
В науке – собственно, влияние исторического созерцания так же ощутительно, как и в искусстве. Мы разумеем здесь преимущественно философию, как пауку тех живых истин, которые положены краеугольными камнями мироздания. Впрочем, здесь влияние было взаимное: от успеха истории как науки сделался возможным окончательный успех философии, которая, в свою очередь, по мере собственных успехов, возвышала достоинство истории как науки. Можно сказать, что философия есть душа и смысл истории, а история есть живое, практическое проявление философии в событиях и фактах. По Гегелю, мышление есть как бы историческое движение духа, сознающего себя в своих моментах; и ни один философ не дал истории такого бесконечного н всеобъемлющего значения, как этот величайший и последний представитель философии…{5}
Историческое созерцание проникло всю современную действительность – даже самый быт наш. Чувство общественности теперь везде сильнее, чем когда-либо прежде было. Каждый живее чувствует себя в обществе и общество в себе, и каждый по крайней мере претендует служить обществу, служа себе самому. Вражда между сословиями исчезает, и они примиряются в признании взаимной необходимости и взаимной важности для общества. Зависть уступает место соревнованию. Общественные предприятия возбуждают общий интерес, как дело, лично до каждого касающееся. Какая-нибудь железная дорога утверждается на основании опытов прошедшего, на предвидении результатов в будущем. Для обществ как будто исчезло различие между прошедшим, настоящим и будущим: общества равно живут теперь во всех трех этих отношениях времени, – и настоящее для них есть результат прошедшего, на основании которого должно осуществиться и их будущее. Прогресс и движение сделались теперь словами ежедневными. Новизна никого не пугает; предела усовершенствованиям никто не видит. Каждое общество теперь, в каждую минуту своего существования, представляется в нескольких поколениях, которые суть живые летописи прошедшего, свидетельство настоящего и пророчество будущего: это ступени исторического движения общества, ступени, едва ли отделенные друг от друга какими-нибудь пятилетиями!.. Так скоро все движется теперь…