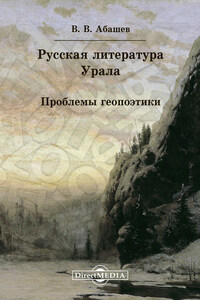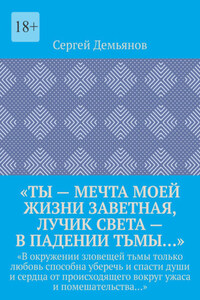История и жизнь человека не только протекают во времени, но и размещаются в пространстве, что неизбежно предполагает вопрос о месте жизни – стране, крае, городе: что это такое и каков смысл моей жизни здесь? Человек не выносит смысловой и ценностной пустоты места, где он живет, ему насущно необходимо его осмыслить и ценностно упорядочить, вписав тем самым в свой мир.
Этот – экзистенциальный по существу – аспект отношений человека к месту его жизни был одним из самых существенных для нас импульсов к изучению уральского и пермского текста. И вопросы о том, что такое Урал и Пермь, стали главными вопросами этого не вполне традиционного в жанрово-стилистическом отношении учебного пособия. В его основу положены работы, написанные в основной своей части в конце 1990-х – 2000-е гг. Их объединяет проблема взаимодействия пространства и культуры, подлинная насущность которой не вызывает сомнений. Современные шумные дискуссии об имидже и брендах территорий – лишь поверхностное выражение глубинной потребности национального, исторического и, соответственно, территориального самоопределения.
Предмет пособия – Урал и Пермь.
Но речь далее пойдет не о географии или истории региона и города, а об Урале и Перми как месте жизни человека и феномене русской культуры: своего рода текстах в ряду других им подобных синтетических текстов об исторически памятных и ставших символическими местах России – петербургского, московского, сибирского, провинциального. Уральский и пермский тексты русской культуры – вот тема пособия. Иначе говоря, мы будем размышлять не столько о Перми, физически существующем городе и земле, а об их тени или следе в культурной памяти – ‘Перми’, структурно-семантическом образовании, одном из топосов русской культуры, семантической матрице, осмысливающей и город, и землю.
В основе так поставленной задачи лежит представление о творческой, конструирующей реальность энергии культуры. Ведь осваивая место, избранное для жизни, человек не только преобразует его утилитарно. Исходя из духа и норм своего языка и культуры, он организует новое место символически и тем самым, вырывая его из немого доселе ландшафта, приобщает к порядку культуры. Культура не нейтральна к физическому пространству, она его идеально переустраивает и трансформирует, сообщает ему структуру и смысл.
В результате рождается новая реальность места. Трудность восприятия этой реальности в том, что символическая структура места сливается с природной до неразличимости, выступая для человека в его живом опыте как некая изначальная данность места. Впрочем, есть в русской культуре место, где опыт по взаимодействию природного ландшафта и творческого воображения был проведен с почти лабораторной чистотой, и результаты его поразительно наглядны и убедительны. Это Коктебель. В начале века Коктебель был никому неведомой глухой деревушкой. Сегодня, благодаря жизни в этом уголке Максимилиана Волошина и его стихам, Коктебель превратился в один из самых памятных символов русской поэзии, и в этом качестве он известен всем. Творческое воображение русского поэта преобразило крымский ландшафт буквально: оно лепило и ваяло его по образу и подобию символических форм культуры.
С тех пор, как отроком у молчаливых,
Торжественно-пустынных берегов
Очнулся я – душа моя разъялась,
И мысль росла, лепилась и ваялась
По складкам гор, по выгибам холмов.
<…>
Моей мечтой с тех пор напоены
Предгорий героические сны
И Коктебеля каменная грива;
Его полынь хмельна моей тоской,
Мой стих поет в волнах его прилива,
И на скале, замкнувшей зыбь залива,
Судьбой и ветрами изваян профиль мой [Волошин 1990: 49].
Слова о том, что мысль поэта лепила и ваяла холмы и горы Коктебеля, – не только красивая метафора, но и точное определение существа взаимодействия культуры и ландшафта. Когда-то Волошин увидел очертания своего профиля в абрисе скал Карадага и запечатлел наблюдение в строке стиха. Сегодня этот профиль видят все, он стал реальной и поэтому для всех различимой формой ландшафта. И более того – энергия творческого воображения Волошина, открывшего процесс символизации Коктебеля, действует и сегодня. Процесс формотворчества продолжается по заданной поэтом программе. В очертаниях Карадага, подчиняясь логике восприятия Волошина, сегодняшние посетители Коктебеля различают все новые многозначительные формы.
Случай с Коктебелем по концентрации культурной символики на столь малом участке пространства почти уникален. Тем не менее он отражает общую закономерность взаимодействия человека и места его жизни. В подходе к этой проблеме мы разделяем принципиальную установку американского искусствоведа и культуролога Саймона Шамы, посвятившего обширное исследование «Ландшафт и память» развитию символики ландшафтных форм в истории культуры. Парадоксально формулируя основную мысль, Шама заявил, что «ландшафты – это скорее явления культуры, чем природы. Модели нашего воображения проецируются на лес, и воду, и камень <…> [и] как только какая-либо идея ландшафта, миф или образ воплотится в месте сем, они сразу становятся способом конструирования новых категорий, создания метафор более реальных, чем их референты, и превращающихся в часть пейзажа»1[Shama 1996: 61]. Мысль о конструктивной силе творческого воображения, вносящего свои символические структуры в реальность, – одна из ведущих в нашем исследовании об Урале и Перми как феноменах русской культуры.
Базовым инструментом нашего исследования является понятие текста – одно из ключевых понятий в науках гуманитарного цикла, давно вышедшее за рамки специально литературоведческой и лингвистической интерпретации и приобретшее статус культурологического.
Для развития современной науки в целом характерно укрупнение объектов изучения. Стремление перейти от наблюдения и описания отдельных феноменов к анализу целостных, развивающихся и внутренне динамичных, подвижных систем все более проникает во все сферы научного знания. Эта тенденция характерна и для развития гуманитарных наук: они вырабатывают новые интегральные представления и понятия. Одним из таких интегральных понятий стало культурологическое понятие текста как гибкой в своих границах, иерархизированной, но подвижно структурирующейся системе значащих элементов, охватывающей диапазон от единичного высказывания до многоэлементных и гетерогенных символических образований.
Современное операционально гибкое представление о тексте стало результатом длительного развития этого понятия в отечественной филологии – от жесткого статического понимания текста в начале 1960-х до мягких функциональных определений 1990-х годов. Траекторию этого развития нетрудно проследить по разновременным работам тартуско-московской семиотической школы, которой, в сущности, и обязаны понятием текста отечественные гуманитарные науки.