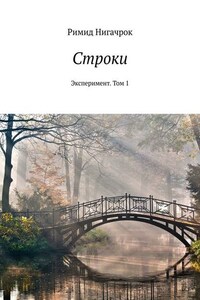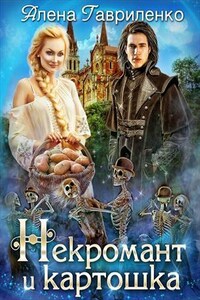Ей приснилась фотография
Черно-белая.
На ней молодые мать и отец.
Он с бородой, рубашка на нем расстегнута.
Он держит ее за руку,
Совершенно счастлив.
Она веселая, бесшабашная, босая.
На левой руке тонкая цепочка.
Она никогда не видела их такими,
Никогда раньше.
Хорошо, что ей приснился сон,
В котором они были…
Были другими…
1.
Я вползать умею в себя саму,
Заполнять пустоты.
В свою перламутровую тюрьму,
Фаустову реторту.
Мне никого, даже идущего не догнать,
Я – моллюск, почти уроборос.
Нас бывает несметная рать,
Чтоб хоть кто-то один дополз бы.
Но если вдруг ливень стеной
Барабанит по хрупким улиточьим спинам,
Я сама себе неуязвимый ковчег, сама себе Ной —
Я и дом мой, мы с ним едины.
2.
Я весь день посвятила дороге длинной.
Начала свой путь от куста с малиной,
Две ступеньки крыльца, жарой палима,
Из последних сил вверх к окну гостиной…
Задремала, но ветер с внезапной силой
Налетел, покатил, уронил… Я сыну
Расскажу, что играла на пианино…
Да, я стал груб и толст, но я все тот же.
Да и ты все также носишь платье малахитового цвета.
Изменилось столько всего, но по мелочам не больше,
Я все также обнимаю тебя через тысячи закатов и рассветов.
Ничто не разлучит нас, наши корни едины.
Мы давно пьем друг друга и земную влагу.
Наши стволы, даже когда от морозов стынут,
Не перестают быть воплощением стойкости и отваги.
Столетье назад ты стояла юная, хрупкая и прозрачная.
Я и сам был тогда еще гибким, как виноградная лоза.
Ничего еще не было нами утрачено,
Ни одного желудя, ни одного семечка.
Ни одна гроза
Не бушевала в наших кронах неистово,
Ломая ветви. Ничего еще не произошло непоправимого.
Кроме одного: я увидел в тебе единственную.
Я обнял тебя, я стал вечным объятьем тебя, любимая.
Я – маяк,
Я обветрен и стар.
Мой каменный торс много лет крушит комиссар,
Посланный морем, пропитанный солью варяг —
Любитель выпить и любых других передряг.
Дрожит каждый камень во мне.
Ступени качаются с глухим стуком,
Но крепко держатся друг за друга —
Им не хочется служить домом для рыб на дне,
Их устраивает соединять верх и низ вполне.
Чтобы шаркая поднимался по ним смотритель-эритроцит,
Доставляя необходимое, проверял все ли в порядке.
Чтоб, как в яйце, в моей каменной кладке
Всегда мерцала, кипела жизнь —
Биение света в глубине френелевских линз.
Мы стояли в брошенном людьми порту.
Тянулся один из непроницаемых северных дней.
Птицы лопались, как воздушные шары, на лету
От невидимого вмешательства извне.
Киты поднимали в холодный воздух
Отполированные морской водой тела.
Мы не приносили никакой пользы
Кроме той, что внутри нас жила
История о том, как мы стояли в порту
В окружении птиц и китов.
О том, как мы пробивались сюда через шторм и пургу,
Со средней скоростью пять узлов.
Чтобы потом через много лет
Какой-нибудь старый охотник, возвратясь домой,
Мог рассказать нашу историю детям, дожевывая хлеб,
Подбрасывая сухие ветки в огонь.
Этна и А. Ахматова. Встреча на Сицилии
Декабрь. Зима началась незаметно,
Не меняя почти ничего, кроме ветра
И оттенка волны. От дыхания Этны
Запотел небосвод.
Кровь кипит в раскаленных недрах,
Превращая волну в километры
Пляжей, пристаней, парапетов
Непрестанно за годом год.
«Анна, мне бы твое сильное сердце.
Остров стал бы мне мал. До Рима
Дотянулась бы. Неизмерима
Была бы. Что мне вечная Таормина
Одна и та же…»
«Этна, ты не знаешь, наши сердца похожи.
Ты ворочаешь огненные камни, я, посмотри, тоже.
И пожар, что живет у тебя и у меня под кожей
Один и тот же…»
Декабрь. Говорили друг с другом два исполина.
Рыбаки готовили лодки, чинили сети.
Плыла зачарованно Таормина
В невозможном закатном свете.
Однажды
Смогу остановиться.
Услышу, как далеко за колодцем плачет ослица.
Вспомню, что когда-то до самой себя
Я была нежной виноградной косточкой.
Вокруг меня зрел синий,
Наполненный солнцем и сладостью, шар.
К осени вокруг меня
Бережно качались теплые натруженные ладони лодочкой.
Мною плевались дети,
И все ладил и ладил свои крылья на винодельне Икар.
Вчера на углу один на неровной ноге фонарь,
Вероятно, спутал себя со сверчком.
Наплевать ему, что кругом непрекращающийся январь.
Он стрекочет и цокает перегорающим зрачком.
Рядом с ним не останавливается ни автобус,
Ни хоть какой ветхий трамвай.
В этой глуши шерсть у бездомных псов
На загривке встает торчком
Безо всяких причин.
Но качает ветер фонарь,
Он жмурится все сильнее,
Ему кажется, вокруг май,
Пахнет мокрой землей, хлебом, травой,
Никто ему не указ,
Кроме дедушкиного сапога…
Погас.
Она спала весь день, проснулась разбитая,
По привычке гнев и обиду внутри тая.
Вчерашней тушью подглазья очерчены.
Проснулась и поднялась, шатаясь,
Ей больше делать нечего.
Заглянула, надеясь, в окно с трещиной —
Ничего не сделано им из того, что давным-давно обещано.
Ни чудес, ни дивных красот, ни золотых россыпей,
Все так и стоит грязный город,
А остальное катится по наклонной плоскости.
Отшатнулась, вступила во что-то белое —
Он когда-то разлил молоко, обжегшись.
Задернула шторы, чтобы неба у нас не было
Задула никому ненужный свой
Миллион масляных плошек…
Дети к звездам летают,
Дети ходят по краю.
Дети всего не знают,
Дети детей рожают.
Взрослых никто не знает.
Где они обитают?
Там, где собаки лают,
Злую метель гоняют?
Там, где звезда качает
След от большой ракеты?
Но, если кто не знает,
То и в ракете дети…
«Колыбель качается над бездной…»
Я качаю тебя, качаю, ты засыпай.
У подножья горы под жалящим солнцем
во главе войска стоит Менелай.
Он сажает платан,
собираясь вернуть царственную Елену,
Троя уже готовится преклонить колена.
Небесные корабли царапают днище
о заросли нашего донного мира,
Распугивают птиц и садятся над нами на мель.
Они отбрасывают гигантские тени,
Смирна становится Измиром.
Я все качаю твою колыбель.
Песчаные дюны шагают из края в край,
опираясь на хамсин.