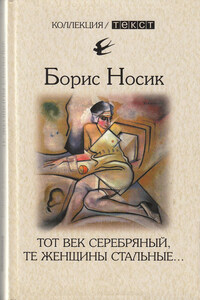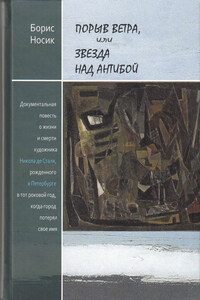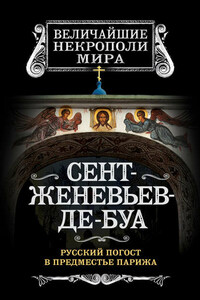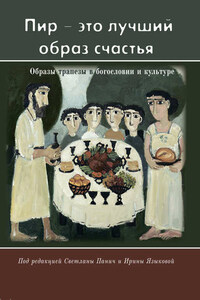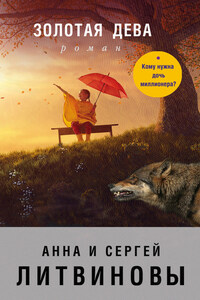Издательство и автор благодарят московского коллекционера Сергея Смирнова за поддержку, сделавшей возможным выход книги.
Искусники – мирискусники
Мир – искусству, искусство – миру
Анисфельд Борис (1878 – 1973)
Анреп Борис (1883 – 1969)
Бакст Лев (1866 – 1924)
Бакст Андрей (1907 – 1972)
Бенуа Александр (1870 – 1960)
Бенуа Альберт (1852 – 1936)
Бенуа Николай (1901 – 1988)
Билибин Александр (1903 – 1972)
Билибин Иван (1876 – 1942)
Браз Осип (1873 – 1936)
Волошин Максимилиан (1877 – 1935)
Добужинский Мстислав (1875 – 1957)
Добужинский Ростислав (1902 – 2000)
Добужинская Лидия (1902 – 1965)
Дягилев Сергей (1872 – 1929)
Замирайло Виктор (1868 – 1939)
Инглези Леонидас (1882 – 1972)
Коровин Константин (1861 – 1939)
Мозалевский Иван (1890 – 1975)
Мозалевская Валентина (1897 – 1975)
Рерих Николай (1874 – 1947)
Рерих Юрий (1902 – 1960)
Рерих Святослав (1904 – 1993)
Сабашникова Маргарита (1882 – 1973)
Сомов Константин (1869 – 1939)
Стеллецкий Дмитрий (1875 – 1947)
Чемберс-Билибина Мария (1874 – 1962)
Чемберс Владимир (1878 – 1934)
Черкесов Юрий (1900 – 1943)
Чехонин Сергей (1878 – 1936)
Чирикова Людмила (1895 – 1990)
Щекатихина-Потоцкая Александра (1892 – 1967)
Король прощается с Лувром и Версалем
Шла страшноватая весна 1953 года. В разгаре была «холодная война» на всей планете, а в России уже воздвигали эшафоты для новых казней. В ожиданье последней расправы обмирали в смертельном страхе в подвалах Лубянки почтенные старики-врачи, «отравители в белых халатах» и «агенты Джойнта» – так принято было тогда в советской прессе называть евреев…
Грустно чернели вечерами даже стекла боярских дач – на Николиной Горе, в Переделкине: спокойнее было сидеть в потемках, может, непрошеный гость пройдет мимо, не «заглянет на огонек» (как говаривал некогда друг Маяковского и Бриков хитрец Яша Агранов, об ту пору уже, впрочем, расстрелянный). За одним из этих дачных окон помирал вконец перепуганный партийными «постановленьями» об искусстве гениальный русский композитор Сергей Сергеевич Прокофьев…
А потом вдруг все переменилось, дрогнуло, стало меняться – точно взломало весенний лед на Неве. Правда он не дождался перемен, освободивших бы его от страха, нестарый еще русский композитор, но зато в те же самые мартовские дни помер и главный палач по кличке Сталин, скорей всего, придушили пахана народов на его «ближней» даче разбойные его опричники. Услышав об этой новости, прогрессивные народы мира умылись слезами: оплакивали конец вурдалака безутешно, однако, не слишком долго. Еще помнится, что в те же дни старикам-«отравителям», во всяком случае тем из них, кто выжили, разрешили позвонить домой, а потом катиться подобру-поздорову домой «к своим Сарам да Абрамчикам»… Такое вот творилось в Москве, а в Париже прошли митинги бесконечной скорби, смахнули суровую мужскую слезу Торез и Пикассо вместе с Луем Арагоном…
«Да, да, как лед весной ломало на Неве… – задумчиво бормотал в привычном своем кресле, установленном на его персональной выставке в одном из залов Лувра, 83-летний русский художник Александр Николаевич Бенуа, – А теперь вот и я прощаюсь с Лувром… А надо бы еще с Версалем проститься… И с Петергофом…»
Печалился он досрочно: жить ему еще оставалось изрядно – можно было наблюдать шевеление жизни, читать книжки, писать новые мемуары, издавать старые, вспоминать, без конца вспоминать… Вспомнилось отчего-то, как он укатил в Париж с началом той, первой еще русской революции, как друзья звали его вернуться – вмешаться в бурю, влиться в их «Жупел», где тявкало уже немало осмелевших мосек… А он был тогда упоен Версалем. Прекрасным Версалем, хотя и оскверненным на века здешней революцией… Помнится, московский поэт-экскурсант молился там на след варварского штыка, вонзенного в антикварный столик. Тот же хам радовался, что «поволокли на эшафот» прекрасную женщину. Знатный был в России поэт, друг мерзкого Брика… Сам-то он был ничего, вполне симпатичный, симпатично-невежественный, хотя вот Наталья-то Гончарова назвала его здесь чуть не Сыном Божиим…
А ему, Бенуа, уже и в 1905 виделось из Версаля будущее российское кровопролитие. Он писал тогда в Петербург другу Диме да племяннику Жене: «Все повторяется, а, следовательно, мы получим своего Робеспьера, и Бонапарты будут равняться по своей декоративности французским. Все же мы зипун, а Бонапарт в зипуне зрелище едва ли выносимое…»
Он ошибался. Не только притерпелись к своим блатным бонапартам россияне, – от большого страху, конечно, – но и сам же он, Бенуа, было время льнул к большевикам, обещавшим остановить ненавистную войну. Впрочем, об этом нынче не любил вспоминать, хотя и скрывать не стал, бесценные дневники тех лет отдал в печать – пусть поймут потомки, как мы чувствовали и отчего…
…Помнится, молодой Женя Лансере и молодой Дима были в том мятежном 1905 г. полны надежд, но ведь он-то, Шура, уже и тогда предсказывал, что самое прекрасное должно в огне бунта погибнуть. Понятное дело, что все, кто подобно ему хоть сколько-нибудь сожалели о гибнущем, уже тогда считались реакционерами… Да и в 20-е годы, уже и здесь, их всех как ретроградов клеймила здешняя вполне эмигрантская, но при этом и вполне большевистская молодая русская поросль (вроде немало хлебнувшего горя самоучки графа Ланского или юного докторского сынка Кости Терешковича)… Выходило, что они, мирискусники, были реакционеры, это они-то, былые борцы против буржуазности…
Но вот еще сколько-то лет прошло с той поры, и кто-то давеча здесь же, в Лувре на вернисаже у него, у Бенуа, объяснял вслух молодежи, что они-то и были настоящие революционеры, наши мирискусники. Ну да, милейший Юрий Палыч Анненков и объяснял, между прочим, неплохой график, но такой уж вертлявый человек – то нашим, то вашим. Он тут взялся объяснить французам про мирискусницкую революцию в русском искусстве, в русской книжной графике, в театрально-сценическом оформлении, в мировом театре… И ведь правда, истинный переворот произвели они тогда в искусстве. Пожалуй что и бунт…
Это мы бунтовали, «майские» гимназисты из не бедных семей. Это мы оскорбляли старых, хороших людей, с которыми у нас оказалось на самом деле больше общего, нежели со многими современниками. Таких нестарых еще людей, как мой покойный папенька, как Кости Сомова почтенный и добрый отец, как благородные их друзья. И ведь талдычили мы тоже по молодости лет, чуть не до шестидесяти – буржуазность, буржуазность…
А что такая за буржуазность у них была, у родителей? Было только честное отношение к России, к труду, к ближним. И семейственность, и порядок… Но вот еще три десятка лет прошло – и никого вокруг, и ничего, как корова языком слизнула…