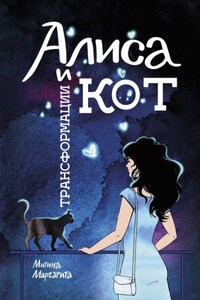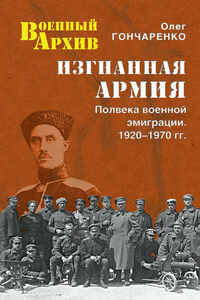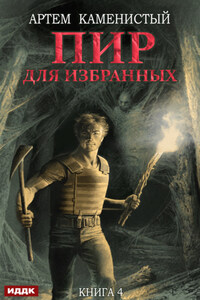Мы видели сон о полупризрачной старухе, которая постепенно, как летом заходит солнце, впускала в себя смерть. Она отдавала остатки реальности снам, отдавала воспоминания реальности, мы снились ей, и в этом была тайна.
Помню, ты чувствовала себя неуютно, и я предложил тебе побыть в комнате для гостей.
Пока я возился на кухне, старуха задремала. Я принес ей заряженный кетоналом шприц, и она сказала, просыпаясь:
– Я и забыла, что вы здесь.
После укола она легла на кровать и погрузилась в свои видения. Когда я зашел в комнату для гостей, было уже темно. Я закрыл дверь, и, как только щелкнул замок, старуха перестала существовать. Я разделся и лег, прислушиваясь к твоему дыханию. По твоему дыханию я знал, спишь ты или нет. Знал, ждешь ли ты прикосновения, и ты ждала. Черно-белые верхушки берез, замершие перед окнами восьмого этажа, тоже чего-то ждали. Чуть в отдалении в ночное небо взмывал каскад из девятиэтажных зданий, деревьев и заснеженных холмов. Мир за окнами был полон волшебного призрачного света и смотрел на нас как огромное живое существо в короне из цементных блоков, фонарей и антенн. Ты лежала рядом, и комната была не просто четырьмя стенами и окном, она была сумеречной сценой, куда заглядывало это странное существо. У него не было стыда, не было морали, не было правильного или неправильного, и мы совсем не стеснялись его присутствия. Твоя молодость, желание и то, о чем говорило твое дыхание… в этом была сама жизнь, бесконечное повторение всего, таинственный сверхритм. И старуха, которая спит в соседней комнате и видит сон о молодости, и мы, которым снится старость, открывающая врата в потусторонний мир, и мать-волчица, вскормившая человека, и старуха-людоедка с бородой, пожирающая своих детей. Падшие ангелы на наших глазах вступают в интимную связь с ее дочерьми, прельстившись изменчивой красотой. Рефаимы смотрят из-под темной воды. Мы смеемся над ними и гладим друг другу руки. Я пытаюсь сказать тебе что-то очень важное, но не могу, и говорю только, что в моем путаном потоке слов скрыт Бог, как золотой песок на дне реки. Он как сокол над зимними полями, улетевший на юг. Как призрак сокола над зимними полями, летит он или нет до сих пор там, где я его видел, или это воспоминания о нем накладываются на чистейшее голубое небо, на пасмурное зимнее небо, на ночное небо без конца и края, рассыпавшееся звездами в окне, перед которым стоит Лара Ратчадемноен.
Лара любит море, и море внутри нее, и оно катит свои воды сквозь время, и эти поля, сокол, замершие березы вдруг разволновались, холмы притихли, замерли, как жемчуга на дне. А течения этого моря волнуют березы, волнуют сокола, волнуют жемчуга, и сердце мое тоже волнуют. И иногда у Лары прибой внутри, и она как бы волнуется.
Лунный свет пробивается сквозь облака, снег на полях блестит, и эта тончайшая игра света и тени приводит в движение мир, который бьется мне в сердце, бьется в сердце Лары, и кто угодно здесь разволнуется.
Ее слова – как блестящие рыбы на мелководье:
– Что-то не так, Даня? Тебя что-то беспокоит?
– Все в порядке.
А про себя думаю… Нет, нет. Ничего я не думаю, потому что сердце внутри – как ветряной генератор на каменистом холме у моря, крутится без конца под этим ветром, и облака с моря бегут и бегут, и бежит узор теней от облаков по воде. Все это происходит в таком месте, где даже не знаешь названия деревьев и просто говоришь «дерево», и видишь просто дерево, и не знаешь, как оно цветет. И даже если найдешь имя этого дерева на английском или на латыни, то это не то дерево, о котором знают местные, потому что у местных кругом духи предков, ветра и земли, и странные обезьяноподобные существа, и королевы змей, и скорпионы рядом с золотыми безмолвными буддами. Ночь прохладна и тиха, остывающий асфальт отдает накопленное за день тепло, и дикие бирманцы гастарбайтеры смеются, сидя в кузове пикапа, и цветы с «дерева» падают на них, и запах этих цветов сладкий и медвяный, а цветы такие огромные, с кулак почти, и такие совершенно красивые, что кажется, будто не настоящие, а вроде восковой муляж. Ищешь потом в Интернете, и оказывается, что имя – плюмерия, а как на языке, который знает душу цветка, не знаю.
А здесь, где Ратчадемноен стоит перед темным небом, заснеженные холмы для меня полны смысла, и березы полны, и чернотелая липа в золотых сережках, которая столько раз раздевалась для меня – скидывала свои золотые листья, – и созвездия над ней кружились. Я знаю многое о жизни этих холмов, деревьев и созвездий, поэтому они мне родные, и когда-нибудь я умру вместе с ними, чтобы потом родиться вновь.
Солнце клонится к закату, смех стихает, и снег тает на твоих темно-синих джинсах и шерстяных гетрах, которые доходят почти до колен. Ты видишь, как вспыхивает золотом то один дом, то другой, а то вообще все весеннее небо загорится, и Бог пошлет смеющегося ангела, чтобы обо всем рассказать.
Когда между двумя любовь, то все озаряется, и можно ждать всю жизнь и не дождаться этого чуда, а можно просто любить и любить постоянно.
Такая же весна, как тысячи лет назад. Весна, как в детстве. Весна, как в любой счастливой семье в любое время на этой земле. И кажется, что в садах под звездами уже цветут яблони – белые лепестки падают на деревянные доски стола, краска облупилась, дырка от сучка, забытый на ночь граненый стакан на треть полон дождевой водой.
– У моего деда были татуировки.
– У моего тоже. Твой сидел, наверное?
– Нет. В армии. А твой?
– Мой сидел.
Профиль первой жены расплылся синевой на предплечье, череп с костями на запястье: не забудем, не простим, смерть легавым от ножа. Был в плену во Франции. Потом в плену на Колыме. Продавал свои ордена на рынке. Торговал книгами в поездах. Знаешь, такие пригородные поезда, полупустые, с желтыми окнами, несущиеся сквозь заснеженные поля. Внутри дембеля, цыгане, китайцы, вообще не умеющие читать. Там же Акутагава Рюноскэ и девочка с мандаринами. Там где-то Лара Ратчадемноен и Даня Нараян едут домой, и одинокая Ратчадемноен едет к Дане Нараяну, и ее забирает со станции поезд, весь в морозном тумане и снежной пыли. Поезд-призрак с желтыми глазами-окнами. На нем ты едешь-едешь, и все пассажиры – призраки, и контролеры призраки, и дома за окнами тоже ненастоящие, призрачные, и свет в них ненастоящий, и кухни все пустые, как пусты полустанки, и станции, и поезда, и квартира Дани Нараяна. И сам он потерялся в бесконечных скитаниях, отрастил рыжую бороду, набил сумку для лэптопа сухарями, а лэптоп оставил в индийском аэропорту, или нет, в китайском, где на досмотре чуть ли не догола раздевают, и черт с ним, с лэптопом этим, – сухари в сумке, седина в рыжей бороде, круги под глазами, мобильный телефон всем отвечает, что абонент покинул зону доступа и зависает где-то в Бангкоке на пересечении веток метро, на станции Мо-чит в 5:24 утра, между эмалированным столиком-кухней и закрытыми турникетами, и его тошнит от голода и выкуренных сигарет. Окна тридцатиэтажных зданий горят до сих пор, и непонятно, недавно они зажглись или вообще не гасли всю ночь, и машины внизу ревут своими моторами.