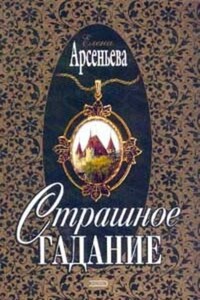Князь Михайла смотрел на жену, которая припала головой к его ногам, сдавленно рыдая, – и понимал, что ее слезы были не слезами жалости, а слезами прощания. Он умирал и знал, что умирает. Немилосердная боль, которая начала его терзать вскоре после того, как он осушил чарку вина, принятую из рук дорогой тетушки и кумы Катерины Григорьевны, наконец-то утихла.
Он осторожно облизал губы… Даже притронуться к ним было мучительно, так искусал он их в приступах жесточайшего страдания, искусал, чтобы сдержать крики. Князь боялся еще больше испугать мать и жену, которые и так почти лишились от страха рассудка, когда его принесли полуживого из дома Воротынских, с веселого крестильного пира. Он стыдился сам себя – герой Москвы, освободивший ее от поляков (он-то знал, что, кабы не шведское войско, ничего не получилось бы… да и со шведами ничего не получилось бы, кабы не ушли поляки сами из Тушина, вдребезги переругавшись друг с другом… он-то знал, но никому не собирался объяснять, а теперь это и вовсе казалось неважным), любимец народный и, очень возможно, преемник государя Василия Шуйского на царстве (доброхоты доносили, что народ на старика царя, неудачника, ввергшего державу в пучину Смутного времени, войн, разора, голода, очень ропщет, а вот на тридцатилетнего синеглазого красавца, государева племянника, удачливого полководца, глядит с обожанием и надеждой). Он стыдился себя – боль превратила его в сущую развалину, тихо стенающую, скручиваемую судорогами и бьющуюся в приступах страха.
Да, ему было не только больно, но и страшно! Страшно – с тех самых пор, как он увидел на крепостной стене Дмитрова женщину с растрепанными волосами, похожую на ведьму. Раньше она казалась князю Михайле самой красивой из всех красавиц земных, а в тот момент, еще сильнее исхудавшая (хотя куда еще худать-то, и так весу не более, чем в птице-синице!), обветренная, в обтрепанной одежде, мало напоминала ту надменную, осыпанную драгоценностями панну, какой когда-то въехала в коленопреклоненную Москву, чтобы сделаться ее царицей. Только глаза, эти серые неистовые глаза… Только голос, тот же голос, который когда-то заливался серебристым смехом… Но тогда он страшно и гулко выкрикнул со стены проклятие, которое теперь сбывалось.
О, как подступила к нутру боль! Ледяной пот оросил бледное чело умирающего.
Жена почувствовала, как он задрожал, и вскинулась.
– Попа… позови мне попа… – еле слышно выдохнул князь Михайла.
Священник, отец Леонтий, уже несколько часов подремывал в дальней горнице. Слух о том, что умирает герой Скопин-Шуйский, всколыхнул округу. Толпы рыдающего народа клубились вокруг его дома в Александровской слободе, и такие же толпы, только разъяренные, клубились в Москве около дома князя Дмитрия Шуйского. Слух о том, что княгиня Катерина Григорьевна подлила в кубок, который она поднесла Скопину-Шуйскому, яду, разнесся по Москве со скоростью пожара, каковому случалось мгновенно выжечь полгорода. Сразу вспомнили, чья она дочь – Малюты Скуратова отродье, Григория Бельского, известного своей незабываемой жестокостью! Шуйские сидели запершись, уже даже не высовывались на высокое крыльцо и не пытались выкрикивать оправдания, которые сначала были негодующими, а потом стали просто жалобными. Сам царь послал к ним стражников для охраны, но если возмущенная толпа все же ринется на штурм, алебардщики разбегутся, надежды на них никакой.
Впрочем, сейчас мысли отца Леонтия были вовсе не о затаившихся, перепуганных Шуйских. Он смотрел в почерневшее лицо князя Михайлы и понимал, что мгновения его молодой жизни сочтены. Какие же прегрешения может вспомнить человек, снискавший любовь народную, всеобщее преклонение?
– Сыне, – ласково проговорил священник, – на пороге смерти вспомни: милосерд наш Господь. Милосерд и всеведущ. И если тяжко тебе говорить, ты смолчи. Ведь Творцу нашему небесному и без исповеди твоей все ведомо.
– Я знаю, – прошептал умирающий. – Но я должен сказать.
Губы его шевелились почти беззвучно. Он толком не понимал, что мелькает перед его внутренним взором…
Березовые леса… белоствольные березовые леса, через которые мчалась повозка, которую он сопровождал из Выксунского монастыря в Москву… В повозке сидела женщина в черном – испуганная, встревоженная, измученная, преждевременно состарившаяся. Это была инокиня Марфа, бывшая царица Мария Федоровна, из рода Нагих, жена покойного государя Ивана Васильевича, мать царевича Димитрия, убиенного в Угличе по приказу Бориса Годунова, метившего на престол русский.
Убиенного? Или чудом спасшегося? Может, правду говорят, будто царевичу удалось спастись? Василий Шуйский ездил в Углич, дабы расследовать убийство. Но ведь от дядюшки никогда толку не добьешься, думал князь Михайла, сегодня он в одном клянется, а завтра – с таким же пылом! – в другом. При Годунове уверял – в могиле-де царевич, сейчас твердит, что в могиле подменыш лежал. Но тот, кто нынче вознесся на московский престол, опираясь на польские штыки, шпаги и пистоли, и впрямь вполне мог быть сыном Грозного. Умен, боек, образован, удачлив, отважен, изощрен во владении любым оружием. Правда, бояре косоротятся: нет в нем благолепия истинно царского, ведет себя, как юнец. А еще бояре зло косятся на европейские, польские да французские нововведения…
Задор, легкость и веселье, которые отличали нового государя, как раз и привлекали молодого Скопина-Шуйского. К тому же князь Михайла был возвышен Димитрием: чин великого мечника, чин не столько русский, сколько польский, но звучный, почетный и доходный, был ему присвоен. А всего-то и забот – хранить царский меч, заботиться о нем, торжественно выносить на царских выходах, ну а в случае беды немедля подать меч Димитрию – и самому, конечно, встать на защиту его. Должность была создана нарочно для красавца и храбреца князя Михайлы, и, конечно, тот был за нее благодарен. Он даже заглушил в душе сомнения, которые неминуемо посещали всех, кто пошел служить Димитрию. И когда инокиня Марфа в отчаянии вопросила:
– А верит ли народ, что перед ним законный царевич?
– Горе тому, кто не признает в нем истинного сына Грозного! – ответствовал князь Михаил. – Народ растерзает сего неверующего!
Проблеск радости проглянул в лице инокини. Она не помнила сына. Она не знала, погиб он или спасся. Она боялась ошибиться, признавая его. Но коли блестящий царедворец, приехавший за ней, подсказывает ей ответ… Ах, какой камень спал с ее понурых плеч! И она постаралась не заметить угрозу, которая прозвенела в словах князя Михайлы.
И вот мать с сыном – с сыном ли – встретились и бросились друг другу в объятия, и Марья Федоровна отправилась в Новодевичий монастырь – ожидать прибытия невесты Димитрия, польской красавицы Марианны Мнишек, которой надлежало быть перекрещенной в Марину.