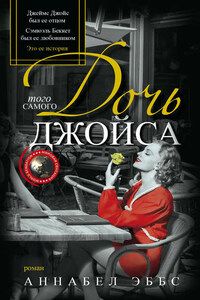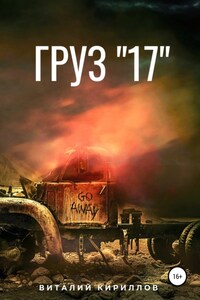Слухи, или Как начинаются истории в Дамаске
Старые кварталы Дамаска еще дремали под серым покровом сумерек, а среди первых посетителей уличных трактиров и пекарен уже пронесся невероятный слух: Нура, жена всеми уважаемого и состоятельного каллиграфа Хамида Фарси, сбежала от мужа.
Апрель 1957 года выдался жарким, но в этот час в воздухе еще витали ночные ароматы пряностей, влажной древесины и цветущего жасмина. Прямая улица еще лежала окутанная темнотой, только в окнах кофеен и хлебных лавок уже горел свет. Наконец тишину прорезал голос муэдзина, отозвавшийся в узких переулках многократным эхом.
И когда над Восточными воротами поднялось солнце, разогнав остатки ночного мрака, а в воздухе запахло маслом, дымом и лошадиным пометом, все мясники, зеленщики и бакалейщики уже знали о бегстве Нуры.
К восьми утра улица дышала испарениями кумина, фалафелей[1] и стирального порошка. Столяры, парикмахеры и кондитеры только что приступили к работе, побрызгав водой тротуары перед дверями своих заведений, а в городе уже говорили о том, что Нура была дочерью известного ученого Рами Араби.
Когда же аптекари, часовщики и антиквары открывали свои мастерские и лавки, никуда не торопясь и не ожидая от этого дня больших прибылей, слухи о Нуре уже достигли окраины города. Теперь это был огромный комок догадок и сплетен. Он так разросся, что не прошел в Восточные ворота и, отскочив от каменной арки, разлетелся на тысячи мелких кусочков, которые, подобно крысам, боящимся дневного света, шныряли теперь по переулкам и проникали в дома.
Злые языки говорили, что причиной бегства Нуры стали жаркие любовные признания, которые писал ей супруг. В этом месте опытный дамасский сплетник всегда делал паузу, словно для того, чтобы дать слушателям время заглотить приманку.
– Как? – возмущенно восклицали слушатели. – Жена оставила мужа только потому, что тот признавался ей в любви?
– Не совсем, – отвечал со спокойствием победителя сплетник. – Он сочинял эти послания по поручению известного бабника Назри Аббани. Тот хотел с их помощью соблазнить красавицу. У этого прощелыги денег куры не клюют, хотя ничего вразумительного, кроме собственного имени, он написать не может.
Назри Аббани был известным дамским любимчиком. Он унаследовал от отца дюжину домов и прекрасный сад в окрестностях Дамаска. Оба его брата, Салах и Мухаммед, славились как честные труженики и благочестивые мужья. В противоположность им, Назри развратничал, как только мог. Кроме четырех законных жен, проживавших в четырех отдельных домах и рожавших ему в год по ребенку каждая, он навещал в городе трех проституток.
С наступлением полдня, когда палящий зной выжег все запахи, а тени редких прохожих сократились больше чем вполовину, слухи о бегстве Нуры распространились не только среди мусульман, но и среди жителей христианского и иудейского кварталов. Богатый дом каллиграфа находился неподалеку от Римских ворот и греческой церкви Девы Марии, в том месте, где встречаются все три части города.
– Одних мужчин мучает арак или гашиш, других губит их ненасытный желудок. А вот Назри болен женщинами. Это как простуда или туберкулез: кого-то эта напасть минует, а кого-то почему-то настигает, – так говорила повитуха Худа и подчеркнуто медленно, словно намекая на то, что и сама страдает подобным недугом, выставляла на стол изящные кофейные чашки.
Худа была доверенным лицом всех четырех жен Назри: хранила их тайны и принимала у них роды. Пять ее соседок, затаив дыхание, кивали.
– И это заразно? – с напускной серьезностью спросила самая тучная из них.
Повитуха покачала головой, а женщины смущенно заулыбались, как будто вопрос показался им неприличным.
Одержимый неутолимой похотью, Назри не пропускал ни одной юбки. Он не делал разницы между крестьянками и дамами из высшего общества, старыми развратницами и юными девушками. Шестнадцатилетняя Альмас, самая молодая из его жен, как-то сказала:
– Назри не может видеть дырку без того, чтобы не вставить туда палку. Не удивлюсь, если однажды он воткнет ее в пчелиное гнездо.
Отказ воспламенял в нем настоящую страсть, как это обычно бывает с мужчинами такого типа. Нура сводила его с ума уже тем, что и слышать о нем не хотела. И Назри на несколько месяцев забыл всех своих шлюх.
– Он совсем потерял голову, – доверительно сообщала Альмас повитухе Худе. – Теперь он редко спит со мной, а когда приходит, я чувствую, что душой он с другой. Но до сих пор я не знала, кто она.
И вот каллиграф стал сочинять для Назри письма, которые могли бы расплавить и камень, однако гордая Нура посчитала их верхом бесстыдства. Она показала письма отцу, и ученый суфий, являвший собой образец невозмутимости, поначалу не поверил дочери. Он решил было, что некий злой дух покушается на семейное благополучие его зятя. Однако доказательства были неоспоримы.
– Дело даже не в том, что они написаны почерком каллиграфа, – продолжала повитуха, понизив голос до шепота. – Прелести Нуры воспеты в них в таких подробностях, о которых, кроме самой Нуры, могли знать разве что ее мать да супруг. Ведь только им известно, как выглядит ее грудь, живот и бедра и какие места на ее теле отмечены родимыми пятнами.
Худа говорила так, будто сама читала то, о чем рассказывала. А потом одна из соседок добавила, что в ответ на обвинения каллиграф не нашел лучшего оправдания, как только сказать, что понятия не имел, кому именно Назри собирается отнести его работу, и что поэт всегда пишет, опираясь на собственный опыт.
– Что за беспринципный человек! – весь следующий день, словно не имея других забот, повторяли жители Дамаска. А потом, если поблизости не было детей, добавляли, качая головами: – Позор на голову каллиграфа, если Нура ляжет в постель с Назри.
– Но она не ляжет с Назри, – поправляли другие, – она сбежала, оставив их обоих, и это самое удивительное.
Истории с известным началом и концом живут в Дамаске недолго. Но в данном случае начало казалось слишком загадочным, а конец оставался непонятным. Поэтому слух о красавице Нуре распространялся среди мужчин, из одной кофейни в другую, и среди женщин, из одного внутреннего двора в другой, раз от разу меняясь и обрастая новыми подробностями.
Злые языки говорили об алчности каллиграфа и о немыслимых суммах, которые платил ему Назри за письма. Он якобы платил за них золотом и ценил по весу. И поэтому каллиграф писал огромными буквами, да так размашисто, что из одного послания делал пять. Все это и заставило наконец молодую женщину принять роковое решение.