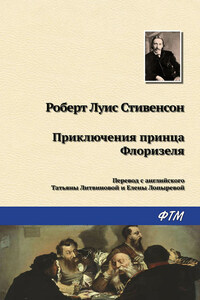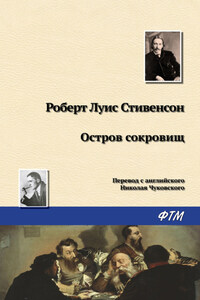В мае 1813 г. я имел несчастье попасть во вражеские руки. Благодаря знанию английского языка на меня возложили тяжелую обязанность, и это было причиной моих бед. Хотя, мне кажется, солдат не может отказаться от даваемых ему поручений, не имеет права стараться отделаться от той или другой опасности, – быть повешенным за шпионство дело далеко не привлекательное, и я вздохнул с облегчением, когда сделался военнопленным. Меня поместили в Эдинбургскую крепость, которая стоит на крутой скале. Туда же заключили несколько сотен таких же несчастных пленников, как я, таких же рядовых солдат. Почти все они были людьми простыми и невежественными.
Знание английского языка, вовлекшее меня в беду, теперь помогало мне переносить мое положение. Я пользовался множеством преимуществ. Нередко меня заставляли играть роль переводчика, передавать приказания или жалобы, и таким образом у меня завязывались сношения с дежурными офицерами, иногда шутливые, иногда почти дружеские. Один молодой лейтенант предложил мне играть с ним в шахматы; я был очень искусным игроком и, конечно, согласился; мой противник угощал меня превосходными сигарами. Майор, батальонный командир, брал у меня уроки французского языка, и так как я приходил к нему в то время, Когда он завтракал, мой ученик бывал иногда так любезен, что предлагал мне закусить вместе с ним. Этот майор Чевеникс был резок как тамбур-мажор и себялюбив как англичанин, но он учился добросовестно и отличался крайней прямотой и справедливостью. Мне и в ум не приходило, что его шомполообразная фигура и застывшее лицо станут преградой для исполнения моих самых задушевных желаний; что благодаря этому точному, исполнительному, холодному как лед и пропитанному духом солдатчины человеку, все мое счастье окажется на краю гибели. Он мне не нравился, однако я верил ему и, хотя это может показаться мелочью, всегда радовался, видя его табакерку с душистым бобом внутри.
Странно, до чего взрослые люди и опытные солдаты способны снова делаться детьми. Пробыв очень недолгое время в тюрьме (которая больше всего напоминает детскую), они погружаются в самые жалкие ребяческие интересы, и сладкий бисквит или щепотка табаку превращаются для них в предметы, о которых они мечтают, о которых вспоминают с удовольствием!
Мы, пленники, оставшиеся в замке, представляли собою довольно жалкое зрелище. Нашим офицерам предложили уехать из крепости на честное слово; они этим воспользовались и почти все поселились в предместьях города, в скромных семействах. Пленные офицеры пользовались свободой, стараясь насколько возможно спокойнее выслушивать постоянно приходившие дурные вести об императоре.
Благодаря случайности, я был единственным дворянином между оставшимися в замке рядовыми солдатами. Большая часть моих товарищей по заключению состояла из итальянцев, служивших в том полку, который так жестоко пострадал в Каталонии; остальные прежде занимались хлебопашеством, виноделием, рубкой леса и совершенно внезапно, не по доброй воле, покинули мирную жизнь для более благородного военного ремесла. Только одно занятие создавало для всех нас общий интерес: каждый пленник, обладавший некоторой ловкостью пальцев, делал на продажу различные мелкие безделушки и «articles de Paris». В замок ежедневно приходили англичане, чтобы радоваться при виде нашего унижения и отчаяния; впрочем, может быть, лучше предположить, что при взгляде на побежденных врагов они ликовали только от сознания своего торжества. Часть посетителей держалась с нами прилично, скромно, выказывая сочувствие к нам; часть поступала с нами самым оскорбительным образом: эти люди глазели на нас, точно на обезьян, и, вероятно, считая, что французы какие-то дикари, старались обратить нас в свою грубую скверную религию; некоторые из приходивших к нам англичан придумывали иное мучение: рассказывали нам о неудачах французской армии. Однако, как все эти посетители ни были хороши, плохи или безразличны, одним способом они, во всяком случае, помогали нам легче переносить несносную тяжесть их визитов: почти все приходившие во двор замка покупали наши грубые изделия. Это заставляло пленников стараться, пробуждало в нас чувство соревнования. Одни из моих товарищей были ловки и, благодаря французской способности, могли предлагать покупателям вещицы, бывшие настоящими чудесами изящества и искусства; другие отличались очень привлекательной наружностью; в этом случае покупатели, по-видимому, находили, что красивые черты заменяли достоинства товара; в особенности молодость (пробуждавшая в наших посетителях чувство жалости) была очень доходной статьей. Третьи знали английский язык и благодаря этому были в состоянии особенно хорошо восхвалять свой товар. Первым из этих качеств я не мог похвастаться: мои пальцы отличались страшной неповоротливостью; другими я обладал в известной мере и, находя в нашей коммерции большое удовольствие, пользовался всеми выгодами своего положения. Я никогда не презирал уменья обходиться с людьми, этого искусства, которым хвалится наша нация, говоря, что все французы в совершенстве владеют им. Для каждого рода покупателей у меня был особый язык и манера обращения; я даже до известной степени менял мою внешность в зависимости от того, с кем говорил, и такие перемены не составляли для меня ни малейшего затруднения. Я не пропускал случая польстить посетителю; если это была женщина, я восхищался лично ею; если же со мной говорил мужчина, я упоминал о величии его страны, выказавшемся во время войны. Когда же мои комплименты не попадали в цель, я умел прикрыть свое отступление милой шуткой; за это меня нередко называли «чудаком» или «смешным малым». Таким образом (хотя я был очень неискусным мастером) мне удавалось успешно сбывать мои изделия и получать деньги для покупки тех пустяков, которыми дорожат дети и пленники.
Я описываю не особенно-таки меланхоличного человека. Действительно, я не был склонен к унынию и, сравнивая свое положение с положением моих товарищей, мог быть довольным. Во-первых, я не имел семьи, был бобылем и холостяком; ни жена, ни дети не ожидали меня во Франции. Во-вторых, я не мог забыть тех ощущений, которые пережил в ту минуту, когда попался в плен; ведь, несмотря на то, что военная тюрьма далеко не райский сад, она все же привлекательнее виселицы! В-третьих, я едва смею сознаться в этом, но место нашего заключения до известной степени нравилось мне: это была типичная средневековая крепость, стоявшая на возвышении; из нее открывался вид не только на море, горы и долину, но также и на улицы города, которые днем чернели от толпы народа, а ночью сияли блеском фонарей. Наконец, хотя я и страдал от различных стеснений, от скудости выдававшейся нам пищи, но при этом вспоминал, что и в Испании мне случалось есть не лучше, да вдобавок еще делать переходы миль в двенадцать или около того. Больше всего меня смущал костюм, который мы были обязаны носить. В Англии существует ужасное обыкновение всех, кого можно, наряжать в безобразные формы; ими клеймят не только преступников, но и военнопленных и даже детей – учеников благотворительных школ. Вероятно, один из злых гениев считал своей наиудачнейшей иронической выдумкой ту одежду, которую мы были вынуждены носить: куртку, жилет и панталоны желтого цвета, оттенка серы или горчицы, и бумажную рубашку с синими и белыми полосами. Это была заметная одежда, дешевая одежда, наряд, вызывавший смех. Мы, старые солдаты, привыкшие к оружию, многие, отмеченные благородными шрамами, благодаря этому наряду выставлялись на потеху публики, точно толпа ярмарочных, жалких гаеров. Скала, на которой высилась наша тюрьма, в прежние времена, называлась «Раскрашенной горой» (мне впоследствии сказали об этом) – ну, так теперь, действительно, она была окрашена в желтый цвет нашими костюмами; а так как нас стерегли солдаты в красном, все вместе мы представляли живую картину ада. Я много раз осматривал моих собратьев-пленников, и во мне поднималась злооа, а слезы были готовы брызнуть из глаз при виде их шутовских нарядов. Как я уже говорил, моими товарищами по заключению были по большей части крестьяне, немного изменившиеся в лучшую сторону под влиянием экзерцирмейстера, но тем не менее неуклюжие, олуховатые люди, которые могли щегольнуть только казарменным изяществом речи и обращения. Поистине нигде наша армия не являлась в более жалком виде, чем в Эдинбургском замке. Часто я представлял себя со стороны и мучительно краснел. Мне казалось, что моя более благородная осанка и хорошие манеры могли только ярче оттенять всю оскорбительность этого гаерского наряда. И я думал о времени, когда носил грубый, но почетный сюртук солдата, вспоминал и о более отдаленных днях, о том, сколько очарования и наслаждения окружало мое детство… Но я не должен дважды вызывать этих воспоминаний. Я буду говорить о них дальше; теперь же мне предстоит иная задача. Коварство британского правительства особенно ярко выражалось в том обстоятельстве, что нас брили всего два раза в неделю. Что же больше этого могло вызвать раздражение и негодование в человеке, всю жизнь любившем быть выбритым как следует? Бритье производилось по понедельникам и четвергам. Возьмите для примера четверг и вообразите себе, в каком виде я должен был выглядеть к воскресному вечеру. А в субботу, когда наши щеки имели тоже достаточно ужасный вид, к нам являлось особенно много посетителей.