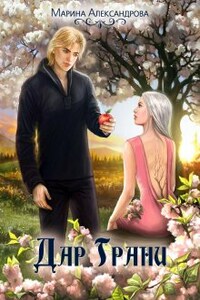Вновь летит на Сахалин, только выключим камин. Пять стаканов и бокал, пролетаешь ты Байкал. Аэрофлот, восемьдесят пятый год, Вы отправляетесь в полёт! Самолёт парит, сердце стучит. Ты таешь вся под мраморным крылом, мой белый шоколад, ты нежишься в туманах и дыму, а я тоскую здесь один, завидуя тебе. Катя, скажи, как удалось тебе сбежать опять, нас обманув? Никто мне не сказал, я сам не знал, но ты ответь: край света нужен лишь, чтоб доказать любовь? Ему твой поцелуй на маяке, твоя взяла: Лаперуз и высота, его глаза морского цвета и некуда бежать.
Ты оставила мне всё и самолётик на столе, а места, искренне томясь, ты не находишь, хоть и брала в проходе, я знаю твои длинные ноги, но всё написано до нас, и Новикова нет давно, но порван воспалённый гобелен крылом – настольный сувенир опасен. Я же не сплю, пока летишь, восемь часов, к нему и от меня, ты справишься? Я здесь с ума схожу. Ты всё надеешься, но Чехов виноват, ответ я знаю, но ты спешишь. Настигнув офицера и обогнав себя, врезаешься в него, любя. Любовный жар не отступает, в крови сорок один. Военврач ждёт, моргая в небеса, считая мили, с каждым рейсом ты всё ближе, а самолёты ниже. Так, Алексей мечтает, я замираю, и камера дрожит сильнее сигареты, но вот мотор: в курилке пусто, коктейль невкусный, ещё земля, а ты паришь в ожидании свидания, избегая прошлого в кафе. Голос сбил тебя с толку, только навязчивое лицо работало официантом пятнадцать лет назад, вдох – выдох. Подвёл ретроградный анализ, говорил же в июле не читать «Ясновидения Набокова». К тому же ты сидишь на том же месте в октябре, обмануты твои зацелованные подушечки плюшевыми подлокотниками, ты в Пулково, а вместе с тем на кухне, укутана в его халат. Душно. Вся дрожишь, отбивая минуты, играющие часы. Вспыхнуло и не потушить. Пять лет. На плече синий маяк. Шея в гирлянде, но всё прошло: у доктора твоего гагаринская улыбка и алые розы на белой футболке. В обед он мчит к тебе, и отступает тьма. Сигареты не спасают, джин не помогает. Ни вам, ни мне. Увертюра, ухожу.
В сладко – пьяных водах марта я тонул в театре, любя и ненавидя, ведь Вы, вы везде: покой и радость, Дафнис и Хлоя. Скалилась радугой Москва, а ты упрямо держишь курсы на восток. Сейчас же красный кружевной октябрь, но в меди Левитана тебя нет, как и в ревущих 20-х, ты вся персиковый дым на его губах, и не напиться нам. За углом поджидает противный персидский ковёр – самолёт Его Величество Время.
Прошлое ушло, стоило тебе закурить с военврачом на площади Искусств.
И, вспомнив, наконец, уже влюбившись, о том, что мучает любовь годами, ты нагло спрашиваешь у меня, хранятся ли бобины разговоров после разлук, стреляет ли ещё лук? На полном скаку ты натянула тетиву, а я освобождай? Я и знать тебя не хочу, но как назвать? Как звали мы его? Кто такой наш Ласт – учитель и кем стал для тебя, тигрица? Лост ждёт тебя и помнит, но ты лети, я задержу.
Прости, я пьян. С третьим звонком третий коньяк, раз ты единственная носишь бархат. Я ждал и ненавидел. Ни улыбки за полжизни. В двадцать цветёшь и куришь, но нам вечно пятнадцать. Глаза цвета атмосферы титана. Плечи твои смущают, не дают покоя, словно я вижу их впервые.
Плыву небрежно по ступеням, тону в ковре, закрыв глаза, я настигаю, и яд переливается во мне. Смотрю, как зло смеётся шёлк её губами, сладко-нервными, чужими. Весь мой удел лететь по маршам, пусть я готов бросать перчатку каждый день, но офицер закрыл Вас так, что мне серьгу не разглядеть. Уже копируешь его, а он знаком с семьёй, гордится! Двадцать лет разницы – ручей, и не боится.
Вокруг всё то же, они уже в двадцатой ложе. Сейчас бы на ложе. Я знаю – диван там точно синий, но блюз бессилен. Кошачьи глаза, не моргая, следят за искрой люстры – трамвая. Его ребро дугой под этой радугой ночной. Неспешно льётся шторы шоколад в такт шуму и шёпоту камина, весь мир вверх дном, следом за ней всё нежно тает, во сне врач за руку хватает. К ногам все розы Эквадора, весь Сахалин, только бы проснулась с ним. Коснувшись сердцем, узнал ритм, а уже утром заспешил с Набоковыми бабочек ловить. В горячую метель, в такси, ему приснится Катя и Белого снега Пальмиры. Золото, кимоно и больше ничего. Ванна готова.
Злыми чайками год в меня летят её дневники, разбиваясь о паркет, я их сдуваю и сдаюсь. Любил, люблю и буду. Низкий голос, алый лак, длину ног, разворот, созвездие на ключице; и злость, и бледность, и строгость, и сентиментальность, надрыв и гордость, только ей можно любить его исступлённо – навсегда. Прошлое – серпантин на ёлке.
Ловлю судьбу, пишу, не нахожу. Где мне начать? В Москве, в отеле? «Посмотри на себя, грешник». Или после спектакля по Куприну? По блату пару посадили в третьем ряду. Сиди и смотри, с ним можно и в первом, и на сцене.
Уже не радует никто. Алексей едва пришёл, но им дышать дано, другие травят, она хладеет ко всему. Пантера пела мне про шип любви, дающий «Хвост лемура», но я в заброшенном саду, душа болит, палец кровит. Пришлось забрать тетради, а вазу я разбил: смертельно боюсь слёз, пусть злится и шипит. Холодная волна у ног, уже у сердца, сам коридор во льдах, и я несу тебя, но ты навзрыд. Татуированный дразнил тебя, а мстишь ты мне.
Но мне до боли знаком её сон: зеркало в бирюзе с горящей подписью-надписью: «Только для грешников». Так впусти меня, мы оба устали биться. «Take the box». Ваша любимая. И опять не угадал. К счастью, сейчас поёшь врачу.
Казалось, мы давно окончили девятый класс «В», наш географ, Валентин Валентинович, решил, что это тоже праздник, а вот кинокритик жизни, чёртов Ласт Листович, не попадается уже года три, и сколько пытался проявиться в лаборатории её души, остался с носом. Отворачиваюсь или зацелую кошачьи следы.
Сильно искушает, я поддаюсь: я полюбил Катерину ещё в школе, но остался в друзьях – дураках, и только спустя годы позволила мне поиграть, заглянуть, выучить историю, наконец. Учебник можно было выбросить в первый день, про них уже всё было ясно. И вот сейчас, перед рассветом листаю фонтан: в моих рука поклонница Набокова выросла и улетела. Мне не хватило смелости открыться ей тогда, теперь же смысла нет. Сложилось так, что учиться вместе мы дальше не смогли, и встретились лишь в двадцать. Катя поверила мне вновь, видел только я, как вся звенела и курила, пластинку заело, иглу сломало, но явился ослепительный, прекрасный, настоящий, неземной доктор, и все ушли. И я закрою тихо дверь, отдаст бокал. Обои уже экран, пещерные тени играют в кино. Бью стену – мне нельзя врываться. Знакомо и далеко.