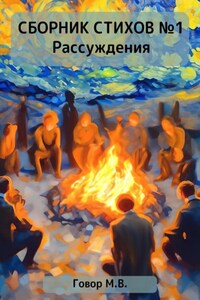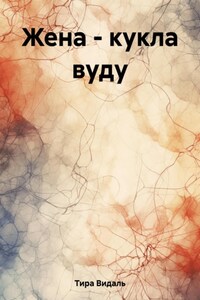ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Петр Ильич Чайковский
Смерть1
На сцене небольшой столик, накрытый аккуратной скатертью. На столе стоит стакан воды. Два стула по бокам от стола. На заднем плане вид осеннего Петербурга. Слышны звуки города: топот лошадей, приглушенные разговоры, звон посуды и пр. На сцену выходит П.И. Чайковский и присаживается за столик. Все это время голос за сценой читает текст.
ГОЛОС ЗА СЦЕНОЙ. «Осенью 1893 года в Санкт-Петербурге разыгралась эпидемия холеры. К 20 октября в городских домах и больницах скончалось уже больше сотни человек. Во всех газетах широко извещалось о том, что сырая вода является главным источником холерного вибриона. Бацилла была найдена в водах Невы и даже в водопроводе Зимнего дворца. В этот день, находясь в смешанных чувствах после премьеры своей Шестой симфонии, Петр Ильич Чайковский за ужином в ресторане Лейнера просит, чтобы ему принесли стакан холодной воды. Узнав, что кипяченой воды нет, он настаивает, чтобы подали сырую.»
Все звуки постепенно затихают. Чайковский долго внимательно смотрит на стакан и затем выпивает его. Когда он ставит стакан обратно на стол, весь свет гаснет на несколько секунд.
ЧАЙКОВСКИЙ (растерянно). Это… все? Это конец?
СМЕРТЬ. Нет, Петенька. Это – только начало.
Зажигается свет (освещая только небольшую область вокруг стола, оставляя всю остальную сцену во мраке), и зрители видят, что на втором стуле, напротив Чайковского, сидит Смерть.
ЧАЙКОВСКИЙ. Где я? Нет. Не может быть… (встает) А как же… Я думал, что туда… (протягивает руки вверх)
СМЕРТЬ. Туда? (непонимающе) А! В смысле «Аааалилуйя!»2 Туда (показывает наверх, посмеивается). А может быть «Па-ба-ба-бам»3. Туда? (показывает руками вниз).
Чайковский смотрит остолбенев.
Да ты не переживай, Петя. Мы с тобой просто поговорим. Присаживайся. Разговор будет долгий.
Чайковский возвращается на место.
Ох уж эти поэты-художники… так болезненно склонные ко всякого рода мистификациям и трагическому символизму (покручивает стакан рукой). Не понимаешь? А ты помнишь, Петя, кто еще скончался от холеры?
ЧАЙКОВСКИЙ. Не помню… Хотя нет… Кажется еще… художник… Ива́нов?
СМЕРТЬ. Нет, Петя… Я не про него. Но хорошо. Ты вспомнишь. Так зачем ты меня звал, Петя?
ЧАЙКОВСКИЙ. Я?.. Я никого не звал!
СМЕРТЬ. «Никого не звал»… Угу. А объясни мне, зачем тогда ты выпил этот стакан?
ЧАЙКОВСКИЙ. Но я не знал, что вода отравлена! Я не знал про холеру!
СМЕРТЬ. Да. Наверняка – ты не знал. Но ты надеялся. Глубоко в душе ты искал встречи со мной. «Смерть есть величайшее из благ, и я призываю ее всеми силами души»… Это твои слова?
ЧАЙКОВСКИЙ. Да, но я хотел… Я думал, что…
СМЕРТЬ. Я знаю, чего ты хотел, Петя. Ты хотел сбежать от всех своих проблем. Вы все этого хотите. Вот так просто взять пистолет, и прощай несчастная любовь. Взять веревку, и прощай все долги. Взять стакан отравленной воды, и… И что? От чего ты хотел сбежать?
ЧАЙКОВСКИЙ. Я устал… устал так жить… Я хочу тишины… и покоя…
СМЕРТЬ. Устал? Устал от чего? От денег? Славы? Женщин? От чего ты устал, Петя?
ЧАЙКОВСКИЙ. Почему так фамильярно? «Петя»… Так меня называют только близкие родственники. Я – Петр Ильич Чайковский. Изволите обращаться ко мне на Вы?
СМЕРТЬ. Ах, Чайковский… А почему, собственно говоря, Чайковский? Может быть Петр Ильич Чайка? Ты ведь знаешь, что это твой дед приписал окончание к вашей фамилии, так ее облагородив? На самом деле ты, Петя – Чайка (изображает чайку). Но не спеши огорчаться, потому что когда-то давно у вашего рода вообще не было фамилии. Никакой. А еще раньше у людей на земле не было даже имен. Все это лишь условности, Петя. Это при жизни могут быть важны ваши фамилии, звания, чины… А после… Жизнь ваша настолько коротка, настолько недолговечна, что для меня вы все остаетесь одинаково малыми детьми. Так что ты уж прости мне, Петя, но я буду обращаться к тебе по привычке. Итак?..
ЧАЙКОВСКИЙ. Я… Я не знаю, что…
СМЕРТЬ. Я понимаю. Нелегко начать говорить о своих проблемах. Поэтому, давай начнем с чего-то простого. Например… кто ты, Петя? Чем ты занимаешься?
ЧАЙКОВСКИЙ. Я?.. Я композитор.
СМЕРТЬ. Замечательно. И какую музыку ты пишешь?
ЧАЙКОВСКИЙ. Симфоническую.
СМЕРТЬ. И как, успешно?
ЧАЙКОВСКИЙ. Ну… с Глинкой я, может быть, и не сравнился, но… многим моя музыка нравится.
СМЕРТЬ. «Многим» – многим, это же прекрасно. Нравится всем, кроме критиков, я полагаю? Как это всегда и бывает. И кто же научил тебя писать музыку?
ЧАЙКОВСКИЙ. Я играл на рояле с самого детства. Помню, моей первой учительницей была Мария Марковна Пальчикова. Она занималась со мной, когда мне было пять лет. Еще помню, в нашем доме стояла оркестрина, и я заслушивался «Дон Жуаном». Я просто боготворил Моцарта! Когда я впервые услышал арию Церлины, то почувствовал слезы, тоску, счастье. Она возбудила во мне святой восторг. Музыка не давала мне покоя. Когда я ложился спать, в голове начинали рождаться мелодии, фантазии. Я стал просто-напросто одержим музыкой. Записывал на слух ноты, что-то импровизировал на рояле, сочинял пьески. Но потом меня в 10 лет отдали в училище правоведения в Петербурге, и музыкальным занятиям пришел конец. В училище единственной моей отрадой стали церковный хор и редкие уроки фортепианной игры со стариком-немцем Ка́релем. Я старался приобщать своих товарищей к опере и театру, играл им на рояле польки, под которые все танцевали. Однако, училище было большим испытанием для меня. Частенько я уединялся где-нибудь в классах и втихомолку плакал. Я родился и вырос в большой семье: у нас дома в Воткинске всегда царило веселье, было много гостей. А в Петербурге я остался совершенно один, в закрытом мужском училище, со своими порядками…
СМЕРТЬ. С телесными наказаниями…
ЧАЙКОВСКИЙ. Нет. Меня никогда не наказывали…
СМЕРТЬ. Тебя – не наказывали. Но сама гнетущая атмосфера насилия, царившая в училище, как Домоклов меч всегда висела над твоей хрупкой и ранимой душой.
ЧАЙКОВСКИЙ. Да, мне приходилось плохо… Я ведь никогда не хотел быть юристом. Родители сначала хотели отдать меня в Горный корпус, как старшего брата Коленьку, но потом прознали о новомодном училище в Петербурге и записали меня в правоведы. Мой отец прошел путь от простого горного инженера до управляющего заводами. Он всю жизнь посвятил службе и не видел другой судьбы для меня. Однако же, он не был совершенно слеп к моим талантам и мечтам, и даже во время мой учебы в училище оплачивал воскресные занятия с пианистом Кюндингером. Но… Рудольф Васильевич не видел во мне никакого таланта и успокоил отца словами, что выдающимся музыкантом мне никогда не стать. За это я ему бесконечно благодарен. Ведь до этого все родственники считали меня музыкальным гением, сродни Моцарту: я играл на рояле с закрытой полотенцем клавиатурой; угадывал на слух тональности; запоминал произведения с одного проигрыша и затем повторял без нот. Но Рудольфа Васильевича этим было не удивить: такие «дарования» в детях он встречал постоянно. Он не стеснялся ругать меня за мое абсолютное невежество по части музыкальной теории, за узость кругозора: в ту пору я не знал ни Баха, ни Шумана, не мог перечислить симфонии Бетховена. Кюндингер, хоть и не верил в меня, но очень многому научил. К сожалению, спустя три года наши с ним занятия пришлось прервать, так как мой папенька разорился. Что конкретно произошло, я не знаю: тайну своего банкротства он не раскрыл никому из родных до самого конца жизни. Но, так или иначе, денег не стало. Мне было 19 лет, я как раз выпустился из училища, в чине титулярного советника, и поступил на службу в Министерство юстиции. Я часами просиживал в канцелярии, занимаясь совершеннейшей ерундой, перекладыванием бумажек. Служба меня абсолютно не интересовала, и я чувствовал свою бездарность, ненужность в этом деле. Единственное, что меня спасало – это наши шумные вечера с друзьями. Мы, кажется, беспрерывно кружились в каком-то смерче развлечений и удовольствий. Жизнь была беззаботна и легка. Постоянно какие-то спектакли, прогулки, рестораны. То и дело, мы попадали в какие-то истории, скандалы… А потом снова понедельник, снова утро… снова моя серая, тусклая служба, благодаря которой я оплачивал все свои приключения. В какой-то момент мне наскучило мое безнадежное существование. Я спросил себя, чего я хочу от жизни? Каким я вижу свое будущее? Никаких карьерных перспектив в Министерстве я не добился – при каждом новом назначении или повышении меня упорно обходили. Я понял, что мне совершенно безразличен сегодняшний день. Я думал лишь о высоком, о вечности. Все что меня интересовало – это искусство. И я решил променять службу на музыку. Я захотел делать то, к чему влекло меня призвание, и поступил в Санкт-Петербургскую консерваторию – а вернее, тогда еще только музыкальные классы – к Антону Григорьевичу Рубинштейну. Помню, как отец отнесся к моему бегству из Министерства юстиции. Ему было больно, что я не исполнил тех надежд, которые он возлагал на мою служебную карьеру, но он никогда ни единым словом не дал мне почувствовать, что недоволен мной…