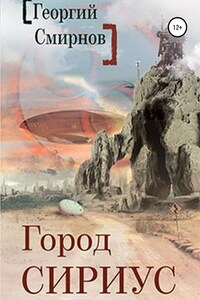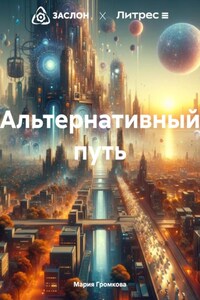Дробится рваный цоколь монумента,
Взвывает сталь отбойных молотков.
Крутой раствор особого цемента
Рассчитан был на тысячи веков.
…
Все, что на свете сделано руками,
Рукам под силу обратить на слом.
Но дело в том,
Что сам собою камень —
Он не бывает ни добром, ни злом.
«Дробится рваный цоколь монумента». Александр Твардовский
Стоял теплый солнечный день. В такие дни душа горожан обычно рвется на свободу, тянется прочь от суеты трудовых будней, домашнего быта и вообще любых проявлений городского существования.
Но события эти происходили не в мегаполисе, а на небольшой опушке леса, окружившего тихий и ничем не приметный украинский хутор.
Легкий ветерок невидимой рукой колыхал кромки деревьев, словно перебирал струны старой виолончели. Под аккомпанемент ветра в арию вступали птичьи трели. В них, как и в настоящем хоре, различались партии сопрано, альтов, теноров. И даже важные басы изредка вносили свою лепту в партитуру природных звуков, придавая ей музыкальную завершенность.
Удивительно, но это произведение звучало очень гармонично, словно каждая птица знала, когда ей вступать, а ветер подбирал мелодию специально под голоса пернатых вокалистов.
Хотя чему удивляться? В природе все пребывает в гармонии. И лишь высшему ее творению, коим является человек, позволено вносить в нее некий диссонанс.
Вот и в тот день стройная мелодия природных звуков нарушалась артиллерийскими канонадами и автоматными очередями, словно вступили ударные. Выжженая порохом земля, как заядлый курильщик, то и дело откашливалась, выдыхая из себя черно-белую дымку.
Один из участников тех событий безмолвно стоял на поляне. Его протянутая окровавленная рука крепко сжимала какой-то предмет. От напряжения на ней вздулись вены. Неподвижная поза, смиренный наклон головы, какой бывает у провинившегося ребенка, наконец, сам жест – все выдавало сакральную, в некотором смысле даже судьбоносную роль предмета, который он держал.
Пальцы медленно разжимались, открывая взору небольшую нательную икону. От обилия впитавшейся крови веревка приобрела насыщенный ало-багровый окрас.
Напряженный, но ровный голос, как молитву, произносил предсмертный монолог: «Боже, неужели это конец? Нет… Не может все так закончиться… Я еще молод. Мне еще многое предстоит сделать… Пожалуйста, Господи, дай мне шанс все исправить… Я обещаю, я сделаю это».
Эти слова принадлежали пареньку двадцати пяти лет. Одет он был в военную форму, местами окровавленную и порванную. Его ясное лицо покрывал плотный слой грязи и копоти от былых сражений. Звали парня простым русским именем Иван.
Он, как и многие другие российские солдаты, пребывающие на той поляне, оказался в числе первых добровольцев, участвующих в специальной военной операции на территории Украины. Ранее Иван не служил и вообще был ограниченно годен к ратному делу по состоянию здоровья. Однако обостренное чувство справедливости и гипертрофированное понимание долга перед Родиной побудили его добровольно явиться в призывной пункт.
По правую сторону от Ивана стояло четверо таких же молодых ребят, в такой же обгоревшей, грязной и рваной военной форме и без оружия. Все чем-то походили друг на друга: может быть, принадлежностью к славянской расе, а возможно, отпечатавшимися на их лицах молодостью и неопытностью, ведь все, за исключением одного, до призыва не имели за плечами никакого боевого опыта.
Тот один, который ранее служил, выделялся из отряда не только более зрелым возрастом и серьезным взглядом бывалого, но и особой офицерской статью, которую выдавала намаршированная выправка. Было видно, что этот человек не раз смотрел смерти в глаза и, подобно дрессировщику, непоколебимо кладущему голову в пасть льва, давно не боялся ее леденящего взгляда.
Он стоял на полшага впереди других, гордо подчеркивая свой статус командира отряда. Звали бесстрашного бойца Виктор Коробов, но ребята, невзирая на его достаточно юный возраст, называли его просто Батя.
Напротив российских солдат в ровную шеренгу выстроился небольшой отряд бойцов ВСУ, которые держали их на прицеле. В сторону врага то и дело летели презрительные взгляды, пронзающие сердце зачастую посильнее всякой пули.
Безмолвную перестрелку глазами прервали слова командира отряда ВСУ.
– Хороший улов сегодня. Пять москалей, – пробросил боец сквозь зажатую в зубах фронтовую сигарету.
– Ты что, хочешь их сдать нашим? Чтобы их там кормили, поили похлеще нашего? Потом их обменяют, и они снова сюда вернутся нас бить? – поинтересовался кто-то из отряда.
– Есть другие предложения?
– Порешаем их на месте! Без суда и следствия! – послышалось из толпы.
– Москали, тут поступило предложение порешить вас на месте. Что скажете? – иронично спросил командир у россиян.
Правда, сама постановка подобного вопроса в сложившейся ситуации предполагала не бурные дебаты и аргументацию в пользу того или иного решения, а преследовала лишь одну цель – деморализовать врага, поставить его на колени, побудив молить о пощаде.
Однако молчание российских солдат говорило о том, что такой щедрый и благодушный подарок они принимать не собираются.
Командир отряда ВСУ подошел поближе и внимательно оглядел каждого русского бойца. Словно опытный игрок, ставящий на кон крупную сумму, он пытался заглянуть противнику прямо в глаза, чтобы узреть в них душу или хотя бы прочитать мысли. Но попытка оказалась тщетной. Разум пленных молчал, а души были спрятаны очень глубоко и наглухо закрыты от посторонних взоров.
О чем вообще может думать человек в подобные мгновения? Вспоминать прожитую жизнь и все то хорошее, что в ней было? Тихо молиться, прося Господа о прощении и принятии его души? Разве есть другие варианты? Единственное, о чем приходилось сожалеть в эти минуты, подводящие некий итог прожитой жизни, что так многое еще не сказано, не подумано, не сделано, не прожито.
Отчаявшись увидеть хоть какую-то значимую реакцию в лицах противника, командир ВСУ вернулся к своим.
– Что ж, как говорится, молчание – знак согласия. Не так ли?
В последней кроткой надежде установить обратную связь солдат обернулся и снова бросил оценивающий взгляд в сторону пленных российских ребят. Однако те продолжали стоять безмолвно и опустив головы, будто не замечали ничего вокруг.
Батя окинул взглядом своих бойцов и медленно переместился поближе к Ивану.
– Ванек, дай обопрусь на тебя, стоять невмочь, – попросил он, положив свою тяжелую руку на плечо парня. Это было странно. И даже не потому, что ранение командира было легким. Подобный поступок был совсем не в духе Бати, который, скорее, наоборот, сам бы подставил свое плечо боевому товарищу, но не просил у него помощи. Однако никто из отряда не придал этому большого значения.