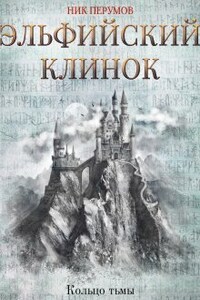Снуська родилась мерзлявой. "А все оттого, что отец у нее с того свету, – гоготали дядьки, – знать, бледнокожий и дохлый". Волос у Снуськи и впрямь нездешний рос: рудой, тонкий да редкий. К исходу большого круга мать брала ее на руки и носила до самого тепла. Подросла теперь Снуся, задобрела тельцем. Не по рукам ноша. К тому и ум в голове созрел, сам куститься принялся. Ясный мох, тут мать и решила, что малая сама себя обиходит, да и подалась на тот свет.
Много больших кругов мать то и дело кусала губы, замирала, лицом к борею, леденела глазом. Будто выглядывала потусветье в чащобе. Но не шла. А теперь вот решилась. "Мочи нет, Снусенька, пойду я, – сказала. – Скоро ворочусь – одна нога там, другая здесь. Потерпи". Снуся потерпела малый круг световой. Потерпела средний темновой. Устала терпеть уж, ан все нейдёт мамка.
Схолодало, белая вода закружила над древостоем, просыпалась на сухой лист, улеглась. "До первотравья не сойдет, – поняла Снуська, – значит, выживать одной мне ноне". Вроде и свои есть поблизости: тётька здоровенная, мелкие дядьки, да еще старая мать-перемать слепая. Только нет в народе понятия, чтоб Снуське помогать: чай, не ручная уж, сама отыщет, чем насытиться, где от стужи укрыться. А коли нет, так и жить ей не след.
Теперь Снуська сама по себе. То колючника отроет на поживу, то пушехвостку на скаку упокоит. Одно худо: одиноко да зябко. В лютый хлад разве что тётька пригреет: в той столько тепла закупорено, об мелкую охолониться только в радость! Бывало, обымет Снусю тётенька, да и уснет. А мелкая согреется и от скуки давай на белом кривули пальцем выводить!