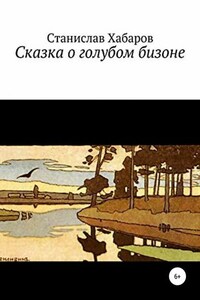( возвращение Кимбола О’ Хары)
Я расскажу о том, как меня не стало.
Ночь. Поезд. Плацкартный вагон, погруженный в лязгающую тьму. Керосиновые лампы мотаются туда-сюда на своих крюках и поскрипывают. В их закопченных стеклянных колбах дрожит, немного рассеивая мрак, красноватое пламя. Я иду через Ад Плацкарта. Здесь душно. Здесь скверно пахнет. На скамьях и полу вповалку спят туземцы. Я замечаю, что моя cорочка насквозь промокла от пота. Пот льется с моего лица ручьями. Предметы двоятся, троятся, змеятся. В голове тонко звенит циркулярная пила. Мне совсем худо. Что я делаю здесь?
Я бреду, спотыкаюсь о лежащий посреди вагона, нищий сброд. Я думаю уже, что так и помру здесь, среди этих ужасных людей, но все же, вываливаюсь, наконец, в тамбур. Стук колес оглушает. Дверь вагона распахнута настежь. На порожке, свесив ноги в отлетающую назад пустоту, сидит проводник-метис в своей форменной фуражке и курточке. Я приваливаюсь к стене и расстегиваю сорочку на груди. Пальцы, как вареные сардельки. По тамбуру гуляетветерок, он пахнет паровозным дымом. Мне становится легче дышать. Проводник-метис оглядывает на меня и снова отворачивается. У него в руке – маленькая фляжка. В дверном проеме стоит без движения полночное индийское небо, полное звездной пыли и блеска, рукава спиральных галактик, как огненные колеса, осыпаются искрами, а под этим небом, на сложенной из беспросветного мрака спине покатого холма перемигиваются далекие красноватые огоньки. Деревня, наверное, или караван остановился на ночлег… Я закрываю глаза. Я толстый шпион. У меня местная амнезия. Я много чего не помню. И я толком не помню, то, что я помню. Я еще не провел ревизию уцелевших воспоминаний. Я не помню деталей нашей последний индийской операции. Я не помню, чем там у нас все кончилось. Провал или успех? Скорее всего, провал. Мой связной, добрейший доктор Хакенбуш дал мне адрес нашего человека в Италии, какой-то городок, Пейзаро, кажется. Вот здесь, в кармане у меня записка с адресом явки и именем агента.. Мысли путаются… Мне необходимо, как можно скорее покинуть Индию. Я еду в Дели. Там международный аэропорт… Я открываю глаза и смотрю на проводника-метиса, сидящего на порожке. Из папиросы, которую он курит, по ходу движения отлетают рубиновые искорки. Форменная куртка проводника и его фуражка напоминают мне отца. Мой отец, он тоже был проводником на Синдо-Пенджабо-Делийской железной дороге… Мой отец был кадровым военным, знаменщиком в ирландском полку. Мы жили в Фирозупре, в особняке с колоннами и балясинами, с запущенным садом, где среди ветвей баобаба ютился наш домашний питон Мафусаил. Я вспоминаю, тот вечер в Фирозупре… Циркулярная пила у меня в голове набирает обороты. Стены тамбура прихотливо изгибаются. Огонек в колбе керосиновый лампы становится темно-лиловым. Чернильные подводные тени норовят сойтись, сомкнуться передо мной наподобие театрального занавеса… Я шпион, повторяю я сквозь зажатые зубы, я толстый серьезный шпион. Я еду в Дели. Мне нужно попасть в Дели. Международный аэропорт. Италия. Городок, черт, как же его там… Имя связного… Я не помню имени связного. Его имя в записке. А записка вот здесь, в пиджаке, в кармане. Зато, я помню другое имя. Я помню, как меня зовут. Меня зовут Ким.
Я сижу в купе, за столиком прижавшись щекой к стеклу. Стекло горячее, цвета сепии от тонкого слоя пыли. Сквозь пыль мне видно бескрайнее поле, изувеченное ковровыми бомбардировками, а из-за поля в далеком далеко поднимаются фиолетовые горы, похожие на колотый лед. На краю поля, возле железнодорожного полотна сидят кружком крестьяне с мотыгами. Представление идет полным ходом. Пожилой факир, толстый дядька, вроде меня, хорошенько размахнувшись, бросает в небо обтрепанный канат. У каната случается эрекция. Крестьяне неслышными для меня возгласами, жестами рук и воздетыми мотыгами выражают свое изумление. Факир пару раз дергает за канат, но тот незыблемо уходит в небеса. Тогда факир подзывает своего помощника, чумазого и сильно худого мальчонку и с помощью хорошего пинка, направляет его к канату. Мальчик сноровисто карабкается вверх и вскоре пропадает в маленьком декоративного вида облачке. Жестами рук и воздетыми мотыгами, а так же, неслышными для меня возгласами, крестьяне выражают свое изумление искусством факира. Факир зовет мальчишку спуститься, а тот мочится на него из облачка. Тогда, взявши в зубы большую кривую саблю, факир сам забирается по канату и тоже пропадает. Пауза. И вдруг, о, ужас! на землю летят кровавые обрубки плоти. Факир спускается, сматывает канат и кланяется почтеннейшей публики. Крестьяне жестами рук, воздетыми мотыгами и возгласами (для меня не слышными) выражают свое изумление искусством факира. Потом все встают и расходятся по домам.
Я не люблю Индию.
– Вот так чудо! – восклицает тибетский лама, глядя за окошко. – Мне рассказывали об этом братья, но сам я такого еще не видывал. В наш родной монастырь Сач-Зене, расположенный против Крашенных скал, не часто захаживали индийские факиры.
– Базарный фокус, – комментирует полковник Хопкинс, крепкий седой старикан, со стальным блеском в глазах. – Этаких чудес в Индии, как блох на бродячем псе.
– Какой вы касты и где ваш дом? – спрашивает ламу госпожа Блаватская.
Она сидит подле полковника с тонким резным мундштуком слоновой кости в руке. С алого уголька папироски сползает, расплетаясь в полумраке купе, ленточка сизого дыма.
– Я пришел через Кулу, из-за Кайласа, – отвечает тибетский лама, – с гор, где воздух и вода свежи и прохладны. Мы последователи Срединного Пути и мирно живем в наших монастырях, а я собрался посетить Четыре Священных Места прежде чем умру.
После этих слов лама роется у себя за пазухой и, вытащив потертую деревянную чашу для сбора подаяния, зачем-то ставит ее на столик.
– И вот, как-то раз, – принимается рассказывать полковник Хопкинс, кстати, он в штатском, – я задержался после подобного представления, и что же вы думаете, я увидел? Когда крестьяне с мотыгами разошлись, этот вот мальчуган, только что изрубленный в капусту, вылез из придорожной канавы и стал помогать престарелому факиру, складывать реквизит. После факир сел на своего ослика, а его мальчик-слуга побежал следом, и оба скрылись в дорожной пыли, которую красиво подсвечивало заходящее солнце.
– Но, мы-то с вами просвещенные люди, полковник, – говорит Блаватская, играя длинным и тонким костяным мундштуком в не менее длинных и тонких пальцах. – И мы с вами знаем, что ни этой жуткой кровавой бани, ни этого, прости господи, эрегированного каната на самом деле не было. И, если уж на то пошло, не было решительно ничего кроме дюжины деревенских дурачков, сидящих тесным кружком на краю поля.