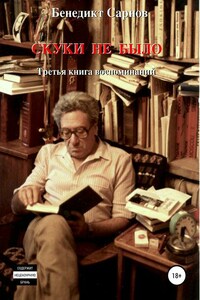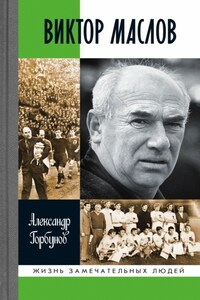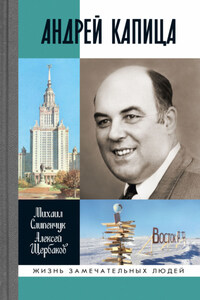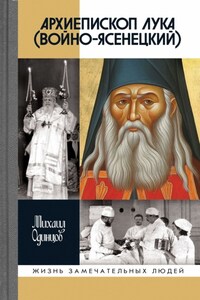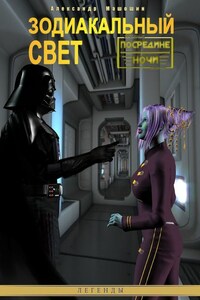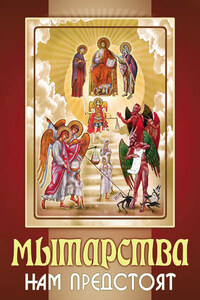Закончив вторую книгу своих воспоминаний, я увидал, что многое из того, что мне хотелось в нее вместить, туда не вошло. За пределами книги (обоих ее томов) осталось множество сюжетов, которые были интересны не только мне, но, как мне казалось, могли бы представить интерес и для читателя. Естественно, мне захотелось написать еще одну, третью книгу, в которой все эти, оставшиеся «за кадром» истории, эпизоды и, как говорил Бабель, «замечания из жизни» располагались бы уже не в связном повествовании, ограниченном рамками хронологической последовательности, а в виде произвольной, беспорядочной мозаики.
Соблазн написать такую книгу был велик. Казалось бы, чего же лучше – садись и пиши!
Но мне мешало одно очень важное соображение.
Вторая книга моих воспоминаний хронологически была доведена до 1987 года. То есть – до начала нашей так называемой «перестройки».
С тех пор прошло двадцать пять лет. И каких лет!
И мне было, что вспомнить об этой эпохе в жизни страны и в моей собственной жизни.
Умом я понимал, что этот мой замысел правильнее, чем тот, «мозаичный». Но душа больше лежала к первому.
Какому же из них отдать предпочтение?
На этот вопрос у меня не было ясного ответа. Я метался между этими двумя соблазнами, попеременно склоняясь то к одному, то к другому, как знаменитый Буриданов осел между двумя охапками сена.
Но однажды, в процессе этих метаний я вдруг почувствовал возможность соединить, слить эти два замысла в один.
Возможность эта открылась мне в желании продолжить линию «портретов», которую я начал еще во второй книге. Там это были «портреты» Эренбурга, Виктора Шкловского, Маршака, Солженицына. А в новой книге эта галерея могла быть продолжена портретами Бориса Слуцкого, Коржавина, Войновича, Булата Окуджавы, – с каждым из них я был близок на протяжении полувека. Тут нельзя будет не рассказать о том, как тот исторический разлом, который случился со страной, с некоторыми из них меня еще больше сблизил (Войнович, Булат), с другими, хоть и не развел, но в достаточной степени осложнил отношения (Коржавин, Владимир Корнилов), а с кем-то и развел навсегда, сделав врагами (Юрий Бондарев).
И чтобы написать обо всем этом, вовсе не обязательно соблюдать хронологическую последовательность в изложении событий. Ведь скуки у нас не было, как говорится, всю дорогу – что в советские времена, что потом, после распада Советского Союза.
Вот такой, подумал я, и должна быть эта третья книга моих воспоминаний. А перед первыми двумя у нее даже будет одно важное преимущество: ее можно будет читать и не зная тех двух. Являясь в некотором смысле их продолжением, она в то же время никак не будет от них зависеть: будет существовать сама по себе.
Бенедикт Сарнов
19 февраля 2012 г.
Несколько слов об эпиграфе к этой книге
Я долго колебался, прежде чем решился его оставить.
Предпринял даже попытку дать его в несколько усеченном виде, без первой и последней строки. Вот так:
Я говорю про всю среду,
С которой я имел в виду
Сойти со сцены, и сойду.
Причиной этих моих колебаний было сознание несравнимости той среды, о которой собирался говорить в этой своей книге я, с той, которую «имел в виду» Пастернак.
Острое сознание этой несравнимости выразил Давид Самойлов в коротеньком стихотворении, которое он написал, когда ушла последняя представительница той, пастернаковской среды – Ахматова:
Вот и всё. Смежили очи гении.
И когда померкли небеса,
Словно в опустевшем помещении
Стали слышны наши голоса.
Тянем, тянем слово залежалое,
Говорим и вяло и темно.
Как нас чествуют и как нас жалуют!
Нету их. И всё разрешено.
Нельзя не признать, что некоторые основания для этого горького самоуничижения у поэта были. И музыка наша была не та. И лёд не тот.
И все-таки… Всё-таки мы тоже были музыкой во льду.
И поэтому —
Портреты
Печальная диалектика
Зазвал меня как-то к себе один мой приятель.
В этом его приглашении было что-то не совсем обычное. Он явно давал понять, что зовет не просто так, а с тем, чтобы доставить мне какое-то особенное удовольствие. «Приходи, не пожалеешь!» – сказал он.
Я решил, что ему удалось достать какое-то давно уже нами забытое (дело происходило в советские времена) лакомство, – скажем, миноги, или осетрину первой свежести, – которым он собирается меня попотчевать.
Так оно и вышло. Но лакомство, которым он в этот раз меня угостил, было совсем другого рода.
Все с той же своей загадочной, обещающей какое-то неслыханной блаженство ухмылкой он достал из конверта патефонную пластинку. Тут, – не скрою, – я испытал некоторое разочарование. (Я совсем было забыл, что этот мой приятель был большой меломан, а я, уж если меня решили угостить, решительно предпочел бы миноги). Но вот он включил проигрыватель, пластинка медленно начала свое кружение, и в комнате зазвучал божественный голос Ахматовой.
Эта была только что выпущенная тогда в свет фирмой «Мелодия» пластинка «Голоса поэтов».
Приятель мой блаженствовал. Я – тоже. Но к его блаженству еще примешивалось удовольствие от сознания. что затея его удалась: угощение, которое он мне сулил, меня не разочаровало.
Все это было написано на его лице. Но помимо этого там было написано кое-что еще. С него не сходило выражение, ясно говорящее, что это – еще не все, что впереди меня ждет еще какая-то неожиданность, еще какой-то сюрприз.
Голос Ахматовой отзвучал.
После нее читал Слуцкий.
И едва раздались первые звуки его голоса, я сразу же понял, что означало это загадочное выражение лица моего приятеля.
Слуцкий вколачивал свои слова, словно гвозди. После виолончельного голоса Ахматовой, после волшебной музыки ее стихов его голос, его стихи казались не просто немузыкальными, но – антимузыкальными.
Приятель мой ухмылялся: запланированный им эффект удался.
Но Слуцкий продолжал вколачивать свои гвозди – и ироническая ухмылка постепенно сходила с лица моего приятеля. Оно становилось серьезным, вдумчивым, вслушивающимся. И даже как бы завороженным этим жестким, немузыкальным, будничным голосом, этими антимузыкальными, нарочито непоэтичными, подчеркнуто прозаическими стихами.
И тут я вспомнил, – кажется, даже произнес вслух, – две строки одного его стихотворения:
Я не давался музыке. Я знал,
что музыка моя – совсем другая.
Да, это была другая музыка. Совсем другая. Но – музыка.
Это мы обсуждать не будем
Я познакомился с Борисом Слуцким в 1955-м. Что-то о нем я тогда уже слышал, но стихов его практически не знал, – знал только одно, единственное его стихотворение: «Памятник». Оно было напечатано в «Литературной газете» 7 августа 1953 года, и о нем тогда много говорили.
Но на меня, по правде сказать, особого впечатления оно не произвело. Хотя «сделано» оно было мастерски, и даже отмечено необычной по тем временам новизной подхода к традиционной теме бессмертия солдатского подвига: