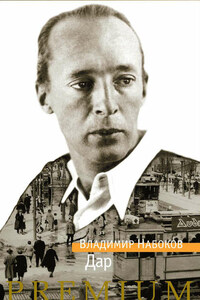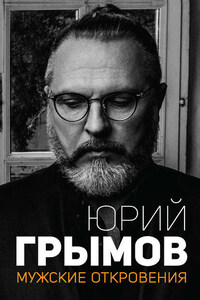Вот персона, которая мне нужна. Салют, персона! – Не слышит.
Если бы будущее существовало, определенно и персонально, как нечто, что мог бы различить более развитый мозг, то прошлое, возможно, не было бы столь соблазнительным: его притязания уравновешивались бы притязаниями будущего. Люди в таком случае, рассматривая тот или иной объект, могли бы восседать на середине качельной доски. Было бы, пожалуй, превесело.
Но будущее не имеет такой реальности (какой обладают воспроизводимое прошлое и воспринимаемое настоящее); будущее – всего лишь фигура речи, фантом мысли.
Салют, персона! В чем дело, отстаньте от меня! Нет, я не пристаю к нему. Ну хорошо, хорошо. Салют, персона… (в последний раз, очень тихим голосом).
Когда мы фокусируем внимание на материальном объекте, независимо от его положения, самый акт концентрации способен нас невольно погрузить в его историю. Новички должны научиться поверхностному скольжению по материи, если хотят, чтобы материя оставалась на точном уровне данного момента. Проницаемые предметы, сквозь которые просвечивает прошлое!
Объекты рукотворные, как и природные, сами по себе нейтральные, но много послужившие беспечной жизни (вам пришел на ум, и совершенно справедливо, камень на склоне холма, по которому несчетное число лет снует несметное множество мелких тварей), особенно трудно удерживать в поверхностном поле внимания: новички, радостно мурлыча себе под нос, проваливаются сквозь эту поверхность и вскоре уже с детским самозабвением упиваются историей этого камня и этой пустоши. Поясню. Природное и искусственное вещество покрыто тонкой оболочкой непосредственной реальности, и всякий, кто желает оставаться в настоящем, с настоящим, на настоящем, пусть, пожалуйста, не прорывает ее натянутой плевы. В противном случае неопытный чудотворец обнаружит, что больше не ходит по воде, а стойком идет на дно в окружении глазеющих рыб. Вскоре продолжим.
Когда наша персона, Хью Пёрсон (искаженное «Петерсон», иные произносят «Парсон»), выпрастывал свое угловатое тело из такси, которое доставило его из Трюкса на этот претенциозный горный курорт, он – со все еще склоненной головой в проеме, предназначенном для появляющихся на свет карликов, – взглянул вверх, – не из признательности за любезность шофера, открывшего ему дверцу, а чтобы сравнить облик отеля «Аскот» («Аскот»!) со своим воспоминанием восьмилетней давности – одна пятая его жизни, полная скорби. Уродливое строение из серого камня и бурого дерева щеголяло вишнево-красными ставнями (не все были закрыты), которые в силу некоего мнемоптического подвоха запомнились ему яблочно-зелеными. Ступени крыльца с двух сторон обрамлялись парой электрифицированных каретных фонарей на стальных опорах. По этим ступеням сбежал лакей в фартуке, чтобы унести два чемодана и (под мышкой) обувную коробку – всё, что шофер проворно выставил из пасти багажника. Пёрсон заплатил проворному шоферу.
Неузнаваемый холл был, несомненно, таким же убогим, как всегда.
Оставляя у стойки подпись и паспорт, он спросил по-французски, по-английски, по-немецки и вновь по-английски, по-прежнему ли здесь старик Крониг, управляющий, толстое лицо и фальшивую жовиальность которого он так хорошо помнил.
Консьержка (светлые волосы собраны в узел, красивая шея) сказала нет, мосье Крониг стал управляющим, представляете, «Мужестика в Фуле» (во всяком случае, так это прозвучало). В виде иллюстрации или подтверждения она показала открытку с зеленой травой, синим небом и разлегшимися в шезлонгах постояльцами. Подпись была на трех языках, без ошибок лишь на немецком. Английская гласила: Лжачая Лужайка – и как нарочно ложная перспектива растянула лужайку до чудовищных размеров.
«Он умер в прошлом году», прибавила девушка (анфас нисколько не походившая на Арманду), лишая фотохромный снимок «Мажестика в Куре» даже того незначительного интереса, какой он собой представлял.
«Выходит, не осталось никого, кто бы мог меня помнить?»
«Сожалею», сказала она с интонацией его покойной жены.
Девушка, кроме того, сожалела о том, что, поскольку он не помнил, какой именно номер он занимал на третьем этаже, она, в свою очередь, не могла его предоставить, тем более что все номера на третьем этаже заняты. Сжимая лоб ладонью, Пёрсон сказал, что то был один из трехсот пятидесятых, окнами на восток, солнце встречало его на коврике у кровати, хотя никакого вида из комнаты не было. Она ему очень нужна, эта комната, но закон требовал, чтобы записи уничтожались, если управляющий, даже экс-управляющий, совершал то, что сделал Крониг (самоубийство, по-видимому, считалось формой служебного подлога). Ее помощник, красивый юноша в черном, с прыщами на подбородке и горле, сопроводил Пёрсона в комнату на четвертом этаже, с увлеченностью телевизионного зрителя глазея, пока они поднимались в лифте, на скользящую вниз сплошную голубоватую стену, в то время как, с другой стороны, не менее увлеченное зеркало лифта в продолжение нескольких ясных мгновений отражало джентльмена из Массачусетса, с продолговатым, худым, печальным лицом, слегка выступающей челюстью и парой симметричных морщин по сторонам рта, что могло бы создать впечатление сурового, с резкими чертами альпиниста, кабы скорбная сутулость не спорила с каждым вершком его королевской мужественности.
Окно выходило на восток, в самом деле, но вид из него определенно открывался, а именно на громадный кратер, полный землеройных машин (смолкавших с вечера субботы до утра понедельника).
Носильщик в яблочно-зеленом фартуке принес два чемодана и картонную коробку с надписью «Впору» на обертке, после чего Пёрсон остался в одиночестве. Он знал, что гостиница пришла в упадок, но это уже было слишком. Belle chambre au quatrième[1], хотя и довольно просторная для одного (но слишком тесная для нескольких человек) была лишена всякого комфорта. Он вспомнил, что комната этажом ниже, в которой он, тридцатидвухлетний крупный мужчина, рыдал чаще и горше, чем даже в годы своего печального детства, тоже была несуразной, но хотя бы не такой вытянутой и захламленной, как его новое обиталище. Кровать была ужасна, как дурной сон. В «ванной комнате» имелся подмывальник (такой широкий, что на него мог бы сесть цирковой слон), но самой ванны не было. Стульчак не удерживался в вертикальном положении. Кран некоторое время протестовал, с напором испуская струю ржавой воды, прежде чем уняться и покорно зажурчать приемлемой жидкостью, которую мы недостаточно высоко ценим – а ведь это текучая тайна, заслуживающая того, чтобы в ее честь, о да, возводить монументы, святилища прохлады! Покинув эту жалкую уборную, Хью благовоспитанно прикрыл за собой дверь, но она, как глупое домашнее животное, заскулила и тут же последовала за ним в комнату. А теперь позвольте нам вернуться к проницаемым предметам.