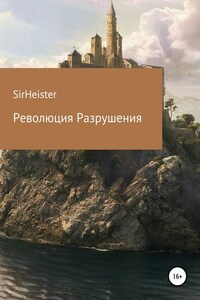Перед рассветом на море опустился густой молочно-белый туман, похожий на огромную пуховую перину или снежное поле. Седые косматые пряди неторопливо перемещались, легко касаясь облупленных, шелушащихся слоями старой краски бортов фелюги, карабкались по ним на палубу, ленивыми серыми змеями обвивались вокруг оснований мачт, путались в такелаже. Туман шевелился, как живой, и в появляющихся просветах мертвым черным зеркалом поблескивала спокойная глубокая вода.
Стоял мертвый штиль, фелюга с убранными парусами лежала в дрейфе. Если верить карте и расчетам, до берега оставалось не более пяти морских миль – рукой подать, учитывая протяженность подошедшего к концу путешествия. Густой туман глушил звуки – негромкий плеск воды, торопливые шаги, скрип талей и возгласы людей, занятых тяжелой работой. Небольшой двухвесельный ялик погрузился в туман, как в молоко, с плеском коснулся килем воды и сразу же тяжело осел под тяжестью втиснутого между банками огромного, окованного железом сундука.
Тали обвисли; по ним в ялик неуклюже сполз какой-то человек в мешковатом кафтане и широких штанах, заправленных в высокие русские сапоги. За спиной на кожаном ремне висел английский штуцер – грозное оружие с нарезным стволом, стоившее жизни многим участникам обороны Севастополя. По слухам, именно появление на вооружении у англичан этого ружья, отличавшегося невиданной доселе дальнобойностью и точностью стрельбы, послужило причиной возникновения солдатского поверья: никогда не закуривать втроем от одной спички, иначе быть беде. Обладатель этого баснословно дорогого оружия был немолод; его обветренное простодушное лицо украшали густые прокуренные усы, а торчавшие из-под картуза пряди волос были щедро посеребрены сединой. Кое-как ухитрившись спуститься в ялик и не вывалиться при этом за борт, он немедленно развил бурную деятельность: через голову стащил с плеча ремень штуцера, едва не уронив в воду картуз, уложил ружье вдоль борта и вцепился в тали, чтобы помочь перебраться в лодку своему спутнику.
Впрочем, последний вовсе не нуждался в помощи. Он бросил с борта фелюги скомканный сюртук, который почти беззвучно упал на перекрещенную железными полосками крышку сундука, и соскользнул по канатам с обезьяньей ловкостью, свойственной бывалым морякам. Он и внешне походил на морехода – вернее, на пирата, сошедшего со страниц романтической приключенческой новеллы. Облегающие серые панталоны были заправлены в высокие сапоги – весьма изящного и даже щегольского покроя, но изрядно потрепанные. Талию охватывал широкий кожаный пояс, на котором висел вороненый, с латунными вставками, шестизарядный морской кольт в потертой кобуре и дорогая офицерская сабля в поцарапанных ножнах. Отделанная кружевами батистовая рубашка являла собою печальное зрелище. Левый рукав был наполовину оторван и пропитался кровью, сочившейся из неглубокой резаной раны на плече, на груди и животе виднелись пятна самого разнообразного происхождения. Брызги крови были и на правом рукаве, как будто владелец рубашки недавно рубил этой рукой мясо. В некотором смысле так оно и было, с той лишь разницей, что в данном случае «мясо» очень старалось не остаться в долгу.
Очутившись в лодке, ловкий рубака сразу же схватил весло и стал отталкиваться им от борта фелюги. Его пожилой спутник слегка замешкался; молодой человек свирепо оглянулся на него через плечо и сердито, хотя и негромко произнес:
– Ну, чего ждешь, старый хрыч? Полетать захотелось?
– Плечо у вас, барин, – тоже вполголоса и очень озабоченно откликнулся пожилой. – Эвон, кровищи-то сколько! Перевязать бы, а то так и до беды недалеко…
– До беды куда ближе, чем ты думаешь, – с хорошо знакомой пожилому свирепой веселостью сообщил рубака. – Если ты, дубина, сейчас же не начнешь грести, перевязывать будет уже нечего.
Покрытое кирпичным загаром лицо пожилого мгновенно приобрело испуганное и сосредоточенное выражение. Тон спутника был куда красноречивее слов; а если вспомнить, что перед тем, как спуститься в ялик, он зачем-то лазил в трюм, сразу становилось ясно, что он не только не шутил, но даже и не преувеличивал грозящую им опасность.
Старик торопливо вставил весла в уключины и принялся грести так, словно за ним гналась сама смерть с косой. Старый слуга – сначала дядька при молодом барине, затем его камердинер, денщик и после позорной отставки снова камердинер – хорошо изучил крутой нрав своего хозяина и точно знал: если уж Дмитрий Аполлонович задумал наделать шуму, он его наделает, да такого, что дай бог самим ноги унести. И удержать его нельзя, и отговаривать бесполезно – все равно сделает по-своему, даже если ему после этого небо на макушку упадет. Плевать ему на это.
Весла с плеском входили в черную, почти невидимую в тумане воду. Небо над головой светлело, предвещая скорый восход. Дмитрий Аполлонович стоял во весь рост на корме, положив левую ладонь на эфес, и смотрел назад, на покинутую фелюгу, которая постепенно растворялась в тумане. Сначала она виднелась во всех подробностях, освещенная кормовым и носовым фонарями, затем превратилась в расплывчатое темное пятно, а потом и вовсе исчезла из вида. Дмитрий Аполлонович закурил длинную турецкую папиросу и сел к рулю. Красный огонек разгорался и гас, выхватывая из предрассветной мглы его красивое лицо с темной полоской щегольских усиков на верхней губе и с аккуратно подстриженными бакенбардами. Твердой рукой направляя лодку к недалекому берегу, он продолжал смотреть туда, где осталась невидимая в тумане фелюга. Он явно чего-то ждал и по прошествии нескольких минут дождался: в тумане сверкнула мутная оранжевая вспышка, и сейчас же послышался глухой громовой раскат. Налетевший горячий ветер сорвал с головы камердинера картуз и швырнул его в воду, в корму ударила высокая волна, а спустя мгновение с неба градом посыпались горящие обломки. Головни шлепались справа и слева, шипя и окутываясь паром. Пар смешивался с туманом, который так и ходил ходуном, расползаясь в стороны рваными клочьями. Ялик закачался на взволновавшейся воде, норовя зачерпнуть ее бортом, в тумане за кормой плясало и подмигивало оранжевое зарево: останки взорванной фелюги горели, медленно погружаясь в воду.
Старик бросил весла, потянулся, чтобы снять картуз, и, обнаружив, что его нет, истово перекрестился.
– Что крестишься, дурень? – спросил его невозмутимый хозяин. – Это ж турки, нехристи. Или, как ты выражаешься, басурманы.
– Что ж с того, что басурманы? – рассудительно и печально возразил камердинер. – Все одно живые души. Упокой их, Господи…