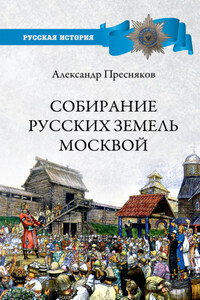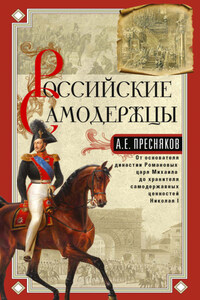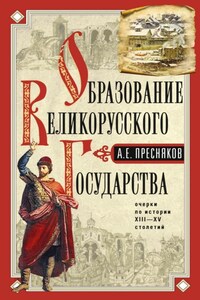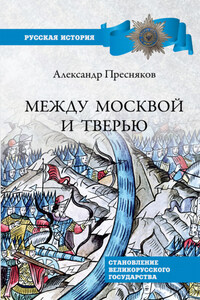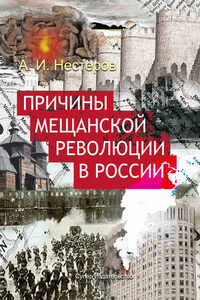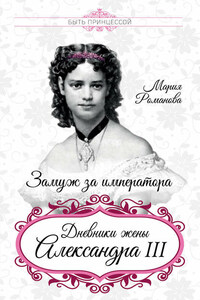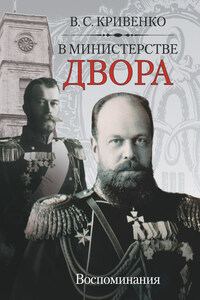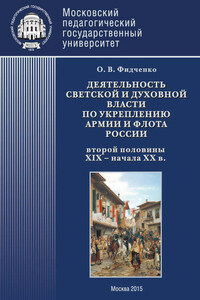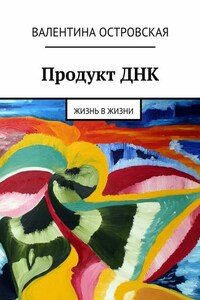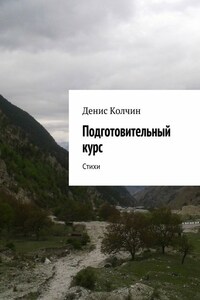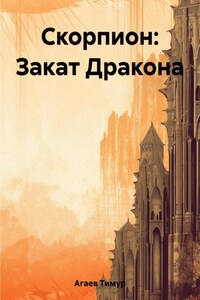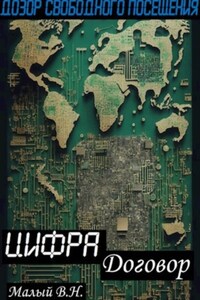В южных пределах Великороссии сложилась особая, беспокойная жизнь Рязанской украйны. Еще в 20-х годах XII века Муромо-Рязанская область выделилась из состава Черниговских волостей1 в вотчину младшей линии черниговских Святославичей, линии потомков князя Ярослава Святославича; в 60-х годах того же века распалась на два обособленных княжества Ярославовых внуков: Муромское Юрия Владимировича и Рязанское Глеба Ростиславича2. Связь между ними порвана в их подчинении власти владимирских великих князей. Муромское княжество вполне подавлено этой властью, и его князья, видимо, вошли без возможности сопротивления в положение владимирских подручников. Рязанское княжье, суетливое и беспокойное, довело себя – в исходе первого десятилетия XIII века – до полной утраты владений: по городам Рязанской земли водворились посадники и тиуны в. к. Всеволода Юрьевича. Но эта прямая великокняжеская власть держалась на Рязани только силой, подавляя волнения и недовольство населения. Сыновья Всеволода Юрьевича примирились с возвращением рязанских князей в их отчину, а в 1219 году рязанские Владимировичи выбиты из земли князем Ингварем Игоревичем, который закончил смуту утверждением рязанской отчины за семьей князей Игоревичей3.
Князь Ингвар прожил недолго; Батыево нашествие застало на старшем столе Рязанской земли его брата Юрия Игоревича. Племянники князя Юрия, Ингваревичи, сидели, по-видимому, на Пронске4. Татарский погром сгубил большую часть рязанского княжого гнезда. Уцелели только два Ингваревича: Ингвар, который был послан дядей за помощью в Чернигов и вернулся оттуда на рязанское княжение, когда схлынула татарская напасть, и Олег, томившийся в ордынском плену. О князе Ингваре Ингваревиче только и знаем, что он «обнови землю Рязанскую»; даже время его кончины не отмечено летописными сводами; обычно полагают, что его не было в живых, когда в 1252 году «пустили татарове рязанского князя Ольга Ингваровича, внука Игорева, на свою землю»5. При Олеге Ингваревиче оформилось владычество Орды над Рязанской землей, ордынские численники «изочли» землю Рязанскую, и была установлена татарская власть в русском улусе золотоордынских ханов.
Олег оставил единственного сына Романа, но и двенадцатилетнее княжение этого князя на Рязани (1258–1270) ничем не отмечено в наших источниках, кроме сказания о его мученической кончине в Орде. От князя Романа Ольговича пошли рязанские князья. Так, история Рязанской земли начинается как бы заново в эпоху татарского владычества над Русью. Под татарской властью Рязанская земля складывается в сильное княжество, одно из местных великих княжений Северо-Восточной Руси. Его значение определилось в XIV веке в зависимости от его географического положения как Рязанской украйны – южного форпоста Великороссии. На юге оно владело важным водоразделом между бассейнами Оки и Верхнего Дона. Поселения, тяготевшие к Рязани, спускались и южнее этого водораздела, пока лес давал им прикрытие от степной опасности, по Дону и Воронежу до речек – притоков Дона – Тихой Сосны, Червленого Яра и Битюга, а восточнее – по Великую Ворону, приток Хопра. Здесь проходила в конце XIII и в XIV веках граница между Рязанской и Сарайской епархиями6. Конечно, так далеко к югу и юго-востоку забегали только отдельные поселки, выдвинутые в степную сторону далеко от главной массы поселений. Ядро земли было много севернее. Старая Рязань была естественным центром этого ядра, но с нею конкурирует в значении центра княжой рязанской силы Переяславль-Рязанский, выше к северо-западу по Оке. Возвышение Переяславля и его конечная победа над Рязанью показательны по-своему для боевого положения Рязанской земли. Перед назойливой и изнурительной южной опасностью эта земля жмется к северу, к центральным областям великорусской силы. Южные пределы Рязанской земли сводили ее со степью, где господствовали татары, не только ханская сила, но и беспокойные разбойничьи мелкие орды, которые со своими ордынскими царевичами и князьками наезжали на Русь на свой страх и риск и на свою добычу. Боевая тревога стала обычной жителям Рязанской украйны и выработала в них тот смелый, буйный и «дерзкий» нрав, о котором твердят с укоризной московские книжники.
Опорным пунктом рязанских сил в южном направлении служил Пронск, который рано получил значение особого княжого стола. А укреплять свои южные позиции и развивать их оборонительное и наступательное значение Рязанское княжество могло, только захватывая, по мере сил и возможности, прилежащие Чернигово-Северские волости и вовлекая в сферу своего влияния их мелкие соседние княжества7. Западные отношения с Черниговщиной, затем с Литвой имели постоянное и крупное значение для Рязани.
Неспокойной была и восточная граница Рязанской земли – по реке Цне, примыкавшая к мещерским и мордовским местам. Затяжная борьба с соседними восточнофинскими племенами и с кочевой силой южной степи еще в XII столетии связала Рязанскую землю с Суздальщиной. В великих князьях владимирских рязанские князья находили опору своим недостаточным силам, но и платили за то подчинением, которое естественно обуславливалось значением Рязанской украйны как великорусского форпоста против инородческого юга и юго-востока.
Эти издавна сложившиеся отношения существенно определяли и дальнейшие судьбы Рязанской земли. Ее боевое положение органически требовало опоры в связях с великорусским центром. Живой артерией этих связей было течение Оки и ее притоков. Укрепить этот свой тыл и расширить его базу было существенной потребностью Рязанской земли. Но возможность усиления в северном и северо-западном направлениях была рано оборвана окрепшей мощью Москвы. Между Москвой и Рязанью – соперничество за волости ослабевшей и распадавшейся Черниговщины. Спорными местами были для них Лопастня, Верея, Боровск, Лужа, которые в договорных грамотах определяются как «места рязанские», хотя все это – бывшие Чернигово-Северские волости8. Захват их Москвою связан, вероятно, с захватом Коломны – ключа к путям на Рязань с севера. А с другой стороны, устье Оки замкнуто Нижним Новгородом; к тому же развитие рязанской территории вниз по Оке преграждено муромскими владениями, которые давно ускользнули из-под рязанских влияний и потянули к великокняжескому Владимиру.
Таково в самых общих чертах положение Рязанской земли, которое обусловило тяжелую ее историю. Рязанское княжество в крайне трудных условиях приняло на себя по историко-географической необходимости боевые и колонизационные задачи Русского Северо-Востока, поддержку и развитие традиций старой Суздальщины в южных отношениях Великороссии, пока новая московская сила не объединит заново в одном центре разрозненные течения великорусской народной жизни.