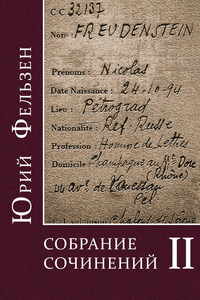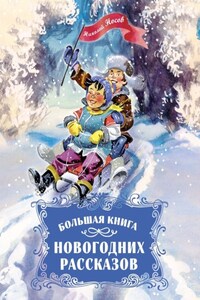У меня есть одно недостижимое и всё же упорное стремление, от которого немедленно возникает замирающий, обессиливающий страх – восстановить далекое прошлое (гимназию, детство, Петербург), вдвойне безнадежно похороненное, в чем, увы, сомневаться нельзя: ведь это прошлое для каждого из нас словно бы украдено и между ним и нами разрыв, произведенный чудовищными событиями, навязанной нам жизнью в каких-то призрачных городах, в чужой, непонятной, неприемлемо-сложной суете, а кроме такой наглядно-внешней причины имеется и внутренняя – что мы не можем отделить от новых бесчисленных душевных наслоений, от нового опыта далекое свое прошлое, и его манящей, первоначальной непосредственности не воскресит перегруженная наша память. Я за другими забывчиво округляю всякие прежние, ничем не завершившиеся случайности и придаю их безобразному нагромождению невольную последовательность, порою строжайшую закономерность, и нередко себе могу уяснить то, к чему раньше относился бессознательно, могу взволнованно, просветленно-творчески передать ничтожные и вялые когда-то часы, но жизненная их свежесть бесповоротно мною утеряна. И однако слепая моя настойчивость сохраняется: у меня давящая (пускай невоплотимая) потребность ворваться в прошлое и те смутные годы запечатлеть не ради «поэзии умершего быта», не ради поэзии самих воспоминаний, а для того, чтобы по мелочам проследить, как в темной путанице предутреннего детского хаоса родилась куда-то направленная самостоятельность и как ее тотчас же коснулось страшное время, подготовившее безвыходные наши дни – и в старательных, напряженных своих поисках я буду довольствоваться хотя бы несовершенными, хотя бы теперешними обманчиво-поздними выводами.
Четвертый класс гимназии, мне ровно тринадцать лет, холодная, грязная северная осень – каким сейчас нам кажется чудом тогдашняя простая возможность ходить равноправно и гордо по столичным, родным петербургским улицам: конечно, тогда мы этой гордости не испытывали, и лишь последующие напрасные сожаления ее создали и безмерно преувеличили, создав и другую естественную выдумку – о легкой жизни, об утраченной сладости, которых никто в свое время не ощущал. В том промежуточном возрасте все школьные отношения вдруг обернулись в благоприятную для меня сторону, и недавние завидные преимущества – заносчивость и сила – недоступные мне, оказались ненужными, отчасти даже вредными: они у многих незаметно превратились в курение, хулиганство, футбол, в бесстыдные разговоры о женщинах, и мы уже безошибочно знали, что начальство, олицетворявшее судьбу, покровительствует хотя бы видимости иного. Был грозный, безжалостный случай – кого-то выгнали за «неприличные» рисунки: директор в синем вицмундире, с черно-седой холеной бородкой, и новый, звенящий, устрашающий голос: «Петров, соберите ваши книги и можете идти домой». Мы суеверно шептались по углам о «волчьем паспорте» (с таким никуда не примут) и, как бывает у нашаливших детей, если один из них попался и наказан, изображали особую примерность, с оттенком полусознательного предательства, с желанием приспособляться и скрывать.
После глупых и обидных неприятностей (услышанные мои подсказывания, упорное молчание вместо ответа, решенное всем классом, меня, однако, не поддержавшим), я понемногу инстинктивно нашел «среднюю линию» – осторожных и скрытых шалостей, когда это ничем не угрожало, и послушной лояльности в глазах учителей. Тот же директор, пытавшийся крикливостью маскировать бережно-мягкую свою доброту, был ко мне слишком заметно расположен, до какой-то перед всеми неловкости, и на томительных своих уроках географии меня единственного не упрекал за болтовню – тем самым поощряемую – с моим соседом по парте. Мы уныло вычерчивали низменности и горные хребты (в виде червячков, истыканных остриями), он садился и поправлял чей-нибудь «контур», а я догадывался, что надо говорить о войнах и полководцах, о прочитанных книгах, и мне казалось, будто он любуется нашей взрослостью. Мой сосед, крепкий, стройный, чистенький мальчик, с розовым, нежным лицом, с удлиненными по-женски отделанными ногтями, отлично знал, какое у нас преимущество, и, разумеется, не портил игры. Его любили товарищи и старшие – за приятную внешность, за легкую во всем одаренность – и даже имя его и фамилия, Женечка Костин, давали повод для двусмысленно-ласковых прозвищ – «наша Женечка», «наша милая косточка» – он изредка сердился, вероятно кокетничая и неискренно. Я восхищался, без малейшей зависти, его работой, тем, как неуловимые движения карандаша, всегда ровно-остро и умело отточенного, преображают бледную, скучную, мертвую карту в отчетливо-яркое, почти живое существо. Меня пленяли его сильные, ловкие руки – я тогда еще не мог понимать, что и мужская, бескорыстная, «умная» дружба порою основывается на внешней привлекательности: в большую перемену мы подымались в верхний коридор, где чинно прогуливались недосягаемые восьмиклассники, и, обнявшись, подражали их чинному хождению, себя ощущая такими же серьезными, им равными – и в чем-то неясном трогательно сближенными между собой. Как полагается, мы их знали наперечет, впоследствии же маленькие для нас сливались в одно, но именно тогдашняя совместная затерянность в столь недоступном и желанном кругу меня с Женечкой Костиным особенно связывала.
Уже три года продолжалась наша спокойная, ровная дружба, с неисчерпаемыми разговорами и постоянными взаимными услугами, такими естественными у неизменных соседей: нас многие пытались почти насильно рассадить (хотя бы для подсказок, для списывания задач), и каждый раз после долгих летних каникул, когда мы все откуда-то съезжались – загорелые, одичавшие и шумные – смягчая ложным весельем понятный тайный испуг перед необходимостью приспособиться к нелепо-разумному порядку и снова в себе унять еще неизжитый размах свободы – каждый раз несмело, нерешительно, однако обидчиво и упорно мне предлагал с ним рядом сидеть наиболее странный из наших гимназистов, последний по алфавиту, Щербинин – как и от многих других, я с неловкостью от него избавлялся, досадуя на его назойливость и вынужденные глупейшие свои предлоги. Он жил в условиях, необычных для нас – у тетки, к нему равнодушной, нестрогой и чем-то занятой – и мог поступать как угодно, не боясь наказаний и вопросов. Его родители давно разошлись – отец был на службе, в Сибири, мать, кажется, на юге, в имении. К началу японской войны он находился при отце, военном чиновнике, и с ним попал ненадолго в Маньчжурию, где заболел и откуда его отправили в Петербург – в результате он с учением запоздал и был на два года старше меня. Худой, длинноногий и длиннорукий, с неподвижным, бледно-серым лицом и словно бы выцветшими голубыми глазками, он людей как-то невольно раздражал – и меня, пожалуй, особенно заметно – униженным своим тоном, просительными словами: он, заискивая, со мной говорил о клятвах верности, о дружбе «без секретов», и я брезгливо тогда ненавидел его молящие, немигающие глаза, вечный запах изо рта, грязные, желтые зубы, его холодную костлявую ладонь, тонкие пальцы с коротенькими синеватыми ногтями, весь его грустный, замороженный вид. Эта жестокая неосознанная моя брезгливость, вероятно, и помешала осуществиться наивно-гимназическому нашему «роману» – я не знал, как бывает неумолим тот, кому навязывают любой роман, и меня всё щербининское изводило, даже хриплый, неестественно-сдавленный его голос. Нас, должно быть, отталкивало от Щербинина и его какое-то вызывающее с нами несходство: так, он заплакал после взятия Порт-Артура и восторженно рассказывал о воспалении обоих легких, от которого еле оправился, – «Ах, как приятно и спокойно умирать, скоро-скоро дышится, немножечко побаливает в боку». Нам это казалось постыдной «бабьей ерундой», и общей забавой стало бить его по спине – я сейчас понимаю, как были страшны такие по-детски безжалостные удары, причем он гримасничал, изгибался, краснел, не возбуждая в нас ни сочувствия, ни раскаяния. Всех беспощаднее себя вел его сосед, силач и рослый второгодник, Штейн Анатолий (в отличие от брата, – Штейн Николай, – исключенного за подделку отцовской подписи): нагло-красивый, наш постоянный «коновод», он обязательно перед каждым уроком размашисто-гулко ударял Щербинина по спине, изловчившись и выбрав неожиданную минуту, и затем нас победительно осматривал, а мы смеялись над щербининским удивлением и гримасами и одобряли столь находчивую шутку. Мы сами Штейна слегка побаивались и ему завидовали, и даже теперь я немедленно узнаю во многих людях, особенно в молодых – по дерзкой улыбке, по такому же вздернутому носу – тех обольстительных, ему подобных удальцов, что в детстве меня дразнили и мучили, подавляя умственную, раннюю мою гордость неотразимо-издевательским своим презрением: иные потом были вынуждены усвоить и «умственное», со всеми сравняться в любви, заботах, делах, в чем иногда со мной считаются и от меня зависят – невольный, неизбежный отыгрыш изобретательной физической слабости, прижизненный переход от первобытного к нашему веку. Хотя зрительная, слишком короткая моя память обычно разрушается временем и отдельные запомнившиеся черты не создают единого образа, но Штейна я вижу порой с наглядной, осязательной точностью, с какой не сумею передать – блестящие черные волосы, темно-карие смелые глаза под круглыми густыми бровями, пушок над приподнятой верхней губой, ошеломительно-белые зубы, девическая нежность лица – отдаленно, толстовская «Lise», но в преломлении задорном до наглости. Мы были так им увлечены и запуганы, что ради него становились храбрыми, перед ним отличались в боях с параллельным и старшими классами, и глухое одобрение Штейна нас поощряло, воодушевляя на безрассудство, словно приказ непобедимого вождя. Щербинин не менее других старался перед ним выслужиться, но у него обнаруживалась во всем природная убогая неудачливость: никто не хвалил его «подвигов», искусно-быстрой увертливости в играх, какой-то суетливо-немужественной, хотя и несомненной его ловкости. Как я уже ранее отмечал, наши прежние доблести обесценились – и Штейн начал уклоняться от драк, ухаживал, ругался с учителями, стал голкипером и щеголем (часы на ремешке) – однако Щербинин, отставший от моды, его как-то вызвал на бой и был им снисходительно избит. На горделиво-жалкий вопрос: «Ну что же, признайся, я не струсил», – получился уничтожающий ответ: «Да, трусости ни капли, но и силы ни капли», – и штейновское любимое: «Чего ты треплешься, трепач».