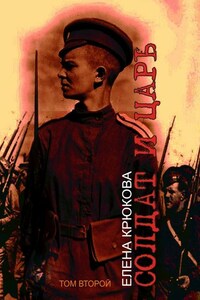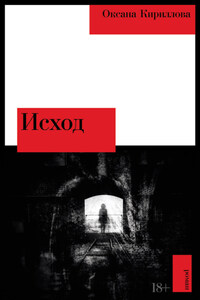«26 (13) февраля, ночь
Я живу в квартире, а за тонкой перегородкой находится другая квартира, где живет буржуа с семейством. Он обстрижен ежиком, расторопен, пробыв всю жизнь важным чиновником, под глазами – мешки, под брюшком тоже, от него пахнет чистым мужским бельем, его дочь играет на рояли, его голос – тэноришка – раздается за стеной, на лестнице, во дворе у отхожего места, где он распоряжается. Везде он.
Господи, Боже! Дай мне силу освободиться от ненависти к нему, которая мешает мне жить в квартире, душит злобой, перебивает мысли. Он такое же плотоядное двуногое, как я. Он лично мне еще не делал зла. Но я задыхаюсь от ненависти, которая доходит до какого-то патологического истерического омерзения, мешает жить.
Отойди от меня, сатана, отойди от меня, буржуа, только так, чтобы не соприкасаться, не видеть, не слышать; лучше я или еще хуже его, не знаю, но гнусно мне, рвотно мне, отойди, сатана».
Александр Блок. Дневники 1918 года
Опять ночь, и опять не спать. Раньше они привыкли к дисциплине. Когда их арестовали и сослали, дисциплина рухнула: ее расстреляли, а потом сожгли.
Царица, в ночной сорочке, расчесывала волосы и все пытала царя: знаешь ли ты что-нибудь об этом страшном человеке? О ком, моя прелесть? О Ленине.
И царь вздыхал. Ему не хотелось беседовать об этом на сон грядущий, но жена спрашивала, и он не мог ей отказать. Я мало знаю о нем. Но то, что знаю, и правда страшно. Он впустил германцев на Украину. Украины с нами больше нет. Там командуют австрияки. Он залил русскую землю кровью, ты же видишь, текут реки крови, и я, царь, уже не в силах это остановить. Я подслушиваю речи красной охраны. Я слышу ужасное. Он пытает в подвалах и расстреливает невинных людей. Многие уезжают. Боже, Боже мой, Ники, почему же мы, мы не уехали?!
Царица клала изящную английскую расческу на край табурета. Вместо туалетного столика – кривоногий табурет. Вместо ковров – грязные ситцевые тряпки, чтобы закрыть по стенам дождевые потеки и кровавые следы раздавленных клопов.
Кто пустил его во власть? Никто. Откуда он появился? Никто не знает. Вроде бы, милая, он жил за границей. И, кажется, люди говорили, что когда-то, давно, мой отец повесил его старшего брата. За то, что он был террорист. И покушался на жизнь моего папа.
Какой негодяй, шептала царица и приглаживала ладонями седые волосы, какая дрянь! Вдруг прижимала руку ко рту – так она делала всегда, когда слишком волновалась. А ты не думаешь, милый, что он арестовал тебя, нас всех, потому, что хочет нам всем – за брата – отомстить?
О, нет, наверное нет. Он, видимо, просто сумасшедший. Умалишенный. Русь, милая, всегда славилась юродивыми. Они ходили по площадям, городам и деревням, побирались, нищенствовали и пророчили. Да! Пророчили! Но ведь не убивали же никого! Да, юродивые Христа ради никогда не убивали никого. А этот – страшен. Он просто с виду здоров. Он пишет и произносит речи, отдает приказы, объявляет мобилизацию, вот из отбросов, из ненавидящих нашу жизнь Красную Армию создал. А на самом деле он – страшный больной. Он болен. Он, милая, тяжко болен. Он требует хорошего лечения, но его не излечишь. Он упивается своей болезнью, он обожествляет ее. Это я чувствую. Все, что не ложится под его красные идеи, должно быть уничтожено, раздавлено, застрелено, сожжено. И приспешники его такие же. Но, видно, он умеет красно говорить, он зажигает толпу. Народ идет за ним, как за Крысоловом из Гаммельна. О! Милый! Крысолов из Гаммельна! Моя любимая сказка в детстве. Но я так боялась, так боялась этого Крысолова! И вот… мы до него и дожили…
Ты видишь, видишь, какие он бросает лозунги в толпу? Когда в Тобольске мне еще доставляли газеты пачками, я все, все читал. Смысл всех его речей и воззваний был один. Какой же, солнце? Не молчи! Говори! Когда ты говоришь, мне легче!
И царь быстро, смущенно, торопливо, боясь причинить боль, но опасаясь и утаить правду, говорил, и царица жадно ловила эти тихие, гладкие бусины катящихся по кровати, по полу слов, таких с виду обычных, а на деле – их люди произносят один, два раза в жизни, а может, и никогда: знаешь, Sunny, он освобождает людей от страха убийства. Ну да, да, так просто, он развязывает всем руки, он развязывает совесть, он… думает так, и вслух говорит так: убивайте, убивайте, убивайте, сжигайте, стреляйте, насилуйте, грабьте, режьте, рубите, топчите ногами – все можно, все в вашей власти, нет страха, все – ваше, Бога – нет! И, милая моя, толпа… толпа слушает его, и загорается, и орет, и рычит, и хочет – всего… всего того, чего у нее нет… и не было… Солдаты говорят: у него такие глубокие, такие печальные, думающие, такие бездонные глаза. Глаза – без дна. Он пишет свои декреты и морщит лоб, и прикрывает эти глаза без дна тяжелыми веками. Я читал эти декреты, солнце. Это декреты умалишенного. Это каракули безумца. Все отнято у буржуев и поделено. Отобрать и поделить! Он не раз повторял это в своих речах. Красные в восторге от этого. Они наизусть учат эти декреты! А там!.. там… там все наше имущество отнято у нас и роздано всем, самым последним нищим, там буржуи в поте лица работают на заводах и фабриках, и станки отрезают им руки и раздавливают ноги, там у крестьянина земли – не то чтобы надел, а – вся страна! Вся! У каждого! А женщины там, darling, женщины… ты не поверишь… но не затыкай уши… поделены между всеми мужчинами… нет жен и мужей… а женщины – всеобщие жены, они принадлежат всем…
Царица сидела, слушая, с прижатой ко рту ладонью. Но ведь милый! милый! он ненавидит Россию! Как же надо ненавидеть Россию, чтобы вот это все делать с ней!
Царь, в солдатском исподнем, лег на кровать и подложил руки под затылок. Он сначала сморщился всем лицом, будто хотел заплакать и не мог, потом все морщины разгладились, брови расправились и полетели по лицу балтийской, забытой чайкой.
Ненавидеть? Россию? Он едва не смеялся. Еще немного, и смех разорвет его рот, его щеки. Жена прижала ладоши к щекам и застыла, глядя на него ледяными, зимними глазами. Милый, что с тобой? Тебе плохо? Тебе… может, воды принесу? Да. Нет. Да, ненавидеть! А разве Россию можно любить? Ну вот скажи, разве можно? Россия свергла нас с трона, унизила, растоптала, мотает по кошевам, пароходам и поездам по Сибири. Россия, милая, может, Ленина давно ждала! Ждала и заждалась! И – дождалась! Ей – Ленина надо было! Не меня! Не отца! Не моего несчастного деда с кровавыми культями вместо ног! Не царей, нет! Ей, солнце мое, надобны жестокость и кровь, и она всегда, всегда такая была, наша Россия, – а я, дурак, не знал… не понимал, не сознавал… и теперь… только теперь…