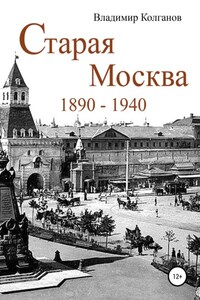В те дни ещё никто не догадывался, что через пару месяцев в Москве наступит небывалая жара. Трудно поверить в такой прогноз, когда идёшь по аллее у замёрзшего пруда, а изо рта вместе со словами вырывается белый пар. Можно подумать, что именно в нём заключён весь смысл произнесённых фраз, однако через несколько мгновений от этих мыслей не останется следа. Впрочем, двое граждан, которые неспешно двигались по аллее, не утруждали себя обсуждением проблем, требующих особого напряжения ума.
Первый из них был не кто иной, как Михаил Афанасьевич Булгаков, автор нескольких пьес, одна из которых принесла ему заслуженный успех, а остальные – массу неприятностей. Второй прославился своей повестью о революционных событиях 1905 года в Одессе, и вот уже год, как Валентин Петрович Катаев нежился в лучах славы и пользовался кое-какими привилегиями, которые полагались советскому писателю.
Как ни странно, темой обсуждения стал «квартирный вопрос»:
– Скажи мне, Валя, ну почему такая жуткая несправедливость? – возмущался Булгаков. – Вы все, и Ильф с Петровым, и Олеша, и даже Боря Пастернак, вот-вот получите квартиры в Лаврушинском, а я вынужден затыкать уши, чтобы не слышать того, что творится этажом выше, в квартире этого жалкого стихоплёта Михалкова, который регулярно устраивает попойки чуть ли не до самого утра.
– Поговорил бы с ним… – посоветовал Катаев.
– Да пробовал, но без толку! Нас с Люсей в гости звал, а мне такое надо? Ты же знаешь, что я люблю работать по ночам…
– Ситуация и впрямь паскудная, – согласился Катаев. – Но ты, Мишаня, сам виноват. Надо было написать что-нибудь патриотичное, с твоим талантом это же совсем нетрудно. Тогда б на руках тебя носили! Да что квартира… Особняк бы получил, а в придачу персональное авто. Ну чем ты хуже Лёшеньки Толстого?
– Нет, Валя. Я так не могу…
– Ну и дурак! – настаивал на своём Катаев. – В человеке важно что? Не ум, и даже не талант, хотя и это может пригодиться. Главное – умение приспосабливаться. Надо найти в этом всеобщем бардаке… ну, скажем, свою нишу, которая обеспечит тебе достойное существование.
– Ты знаешь, Валя, у нас с тобой много общего, – тут Булгаков приглушил голос почти до шёпота. – Вот ты из белого превратился в красного, а у меня это никак не получается. Словно бы внутри сидит зверёк, который заставляет насмехаться над всеми этими людишками, что мельтешат вокруг. Ну что поделаешь, если кроме сатиры ничего в голову не лезет?
– Я тебя понимаю, Миша. Но этот злой зверёк когда-нибудь сведёт тебя в могилу.
– Всё может быть. Однако я ещё надеюсь и жду.
– Чего?!
Собеседники как раз подходили к турникету у выхода в Ермолаевский переулок, как вдруг на Малую Бронную вылетел трамвай. В этом явлении общественного транспорта народу ничего удивительного не было, поскольку трамвай следовал по своему маршруту в сторону Никитских ворот, намереваясь остановиться у другого турникета, близ Малого Козихинского. Однако дальше началось то, что никак не укладывалось в привычную здешним обывателям картину жизни. Внезапно завизжали тормоза, из-под стальных колёс полетели искры, и трамвай встал, как вкопанный. Странность этого события заключалась в том, что на путях не было никаких препятствий, и более того, никому и в голову не пришло бы перебегать дорогу перед несущимся во весь опор трамваем. А всё потому, что улица была пуста, и только два писателя должны были вот-вот выйти на ближайший перекрёсток.
То, что случилось позже, придётся описать во всех подробностях, дабы не упустить важные детали, которые могут пригодиться следствию. Итак, распахнулась дверь трамвая, и из неё вышел некто в бриджах, заправленных в хромовые сапоги, а в дополнение к ним была кожаная тужурка, подпоясанная ремнём, на котором висела внушительных размеров кобура. Внимательно посмотрев по сторонам и, видимо, вполне удовлетворившись тем, что удалось увидеть, человек в тужурке обернулся и гаркнул куда-то в глубину вагона: «Чисто!». Весьма сомнительно, что эта реплика относилась к тротуарам, поскольку снежный наст вперемежку с наледью никак не соответствовали стандартам чистоты, принятым в столичных городах. Но вслед за этим в проёме двери трамвайного вагона появился человек в матросском бушлате и в брюках клёш. Более всего прочего внимание привлекала бескозырка с надписью «Балтийский флот» – судя по всему, эта немаловажная часть туалета должна была подчеркнуть решимость её обладателя во всём и всегда добиваться цели. И правда, в нём чувствовалась уверенность в своих силах и убеждённость в собственной правоте, чего так недостаёт в нынешние времена многим людям, даже самым талантливым писателям.
«Какая-то важная персона», – сообразил Катаев. Но не успел он поделиться с Булгаковым своей догадкой, как незнакомец уже сошёл по ступенькам на булыжную мостовую и направился к турникету, перед которым от неожиданности замерли писатели. Шёл он слегка вразвалочку, как бывалый моряк, причём левая рука делала какие-то уж слишком длинные махи – не то, что правая, которая была прижата к боку. Знающие люди по секрету поведали Катаеву, что именно так учат ходить агентов ОГПУ-НКВД. Смысл в том, что правая рука не должна болтаться без толку, ей полагается быть в таком положении, чтобы легко можно было достать из кармана револьвер.
Понятно, что внутри у Катаева всё похолодело и даже уши заложило, словно бы уже прозвучал тот роковой, смертельный выстрел. Мысленно он начал составлять текст некролога, надеясь, что не ему будет предназначена пуля – в конце концов, это же Булгаков вслух заявил о своём неприятии советской власти. Раз виноват, пусть отвечает! Но вот энкавэдэшник в брюках клёш подошёл и вопреки мрачному прогнозу не стал ни в кого из писателей стрелять, а напротив, улыбнулся и обратился к ним со следующими словами:
– Извините меня, пожалуйста, за то, что прервал вашу увлекательную беседу, однако вы не могли бы подсказать, какой же теперь год?
– Осенью будем праздновать двадцатилетие Великого Октября, – услужливо подсказал Катаев, уже пришедший в себя после недавнего испуга.
– Эх, опять лоханулись на двенадцать лет, – с досадой пробормотал матрос. – Ну что ж, когда вернёмся, сделаем оргвыводы, – и выразительно посмотрел на того, что в кожаной тужурке. Тот сразу же достал блокнот и сделал в нём какую-то пометку.
– Что ж, всякое бывает, особенно если речь идёт о сложной технике, – посочувствовал Булгаков, в отличие от Катаева сразу сообразивший, что к чему. – Однако позвольте поинтересоваться, почему «опять»?
Тут надо пояснить, что Михаил Афанасьевич проштудировал всего Уэллса прежде, чем сочинить «Роковые яйца». Читал он и «Машину времени», а потому слова этого балтийского матроса не вызвали у него ни изумления, ни, тем более, испуга.