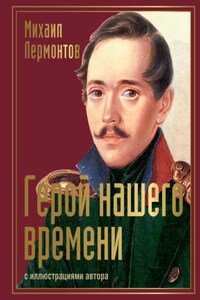Бурсак, гувернер-француз и семейство Толбухиных. Весть о переходе Наполеона через Неман. Гувернер скрывается
Ну вот, очинил карандаш и, благое ловясь, начинаю.
Было это сегодня же, 11 июня. Хожу я этак по двору, в думы свои погруженный, а навстречу мосье Мулине:
– Здравствуйте, молодой человек! Чего нос повесили?
– Тяжело, – говорю, – на душе, – нос книзу и тянет.
– Шутите, мой друг, шутите, – говорит, – а я отлично знаю, что вас гнетет. Тоже ведь раз зеленым юнцом был.
– Ну что? Что?
– А то, что мадемуазель Барб вам опять голову намылила. Ведь так?
– Так или не так, – говорю, – вы-то, мосье Мулине, мне все равно не поможете!
– Напротив, – говорит, – у меня есть для вас верное средство: пишите дневник. Как выльется на бумагу, что на душе накипело, – сразу полегчает. На себе испытал.
– Да в доме у нас, – говорю, – и чернил-то нет.
– А еще в семинарии всяким наукам обучались! Так карандаш-то хоть найдется. Нет, без шуток, – говорит, – вы послушайтесь моего совета; этакий дневник – что горчичник: всякую боль оттянет.
Сказал и пошел своей дорогой.
А задала она мне и вправду здоровую взбучку:
– Не могу, – говорит, – глядеть на тебя, Андрюша, как ты целый день этак без дела болтаешься! Ведь ты годом меня моложе.
– Да, – говорю, – с Рождества восемнадцатый пошел.
– Что ж из тебя, наконец, выйдет!
– Ничего, – говорю, – не выйдет. – А сам вздыхаю. – Из бурсы за малоуспешность удален.
– Да малоуспешность-то отчего? От лени?
– Лень, Варвара Аристарховна, раньше нас родилась! Старая еще пословица.
– И преглупая. Поискал бы ты себе каких-нибудь занятий.
– Да что же я умею? В шашки играть, голубей гонять, бумажный змей пускать…
– И неправда! Учил же ты брата Петю письму, арифметике. Но с тех пор, что взяли для него гувернера, ты от всего отбился, а Петю только глупостям учишь.
– Ах, Варвара Аристарховна! – говорю. – Братец ваш – дворянин; впереди ему везде дорога, а я что? Разночинец, простого дьякона сын…
– Да умом ведь тоже не обижен? Давно ли у нас Мулине; говоришь ты с ним нечасто; а вон как бойко уж болтаешь с ним по-французски.
– И а́кцент бесподобный, бурсацкий.
– Не а́кцент, а акце́нт. Способность к языкам у тебя все-таки есть. Право же, Андрюша, взялся бы ты, наконец, за ум.
Тут ее отозвали…
Однако рука у меня с непривычки отекла. На сегодня довольно. А на душе и то ведь как будто немножко отлегло, просветлело.
Июня 12. Видел ее нынче только издалека меж деревьев. В сад свой вышла свежим воздухом подышать. Своя у нее тоже забота немалая: папеньке ее, Аристарху Петровичу, опять много хуже. С утра еще за доктором посылали.
– В Толбуховку переезжать, – говорит, – ни-ни, и думать даже нечего.
Что ж, этим помещикам, что у себя в усадьбе, что в городском своем доме, не житье – малина. И здесь у них при доме какой сад-то: большущий, тенистый, с дорожками, с беседками… А дом подлинно барский: с колоннами, балконами; покои высокие, просторные. Не то, что через двор матушкина хибарка, – убогая избушка на курьих ножках! Давно уж починки просит: крыша протекает, от окон, как из трубы, дует. Да где денег взять? А помрет матушка (не дай Господи!), так и вдовья пенсия ее ухнет; останусь без гроша…
Правду говорит Варвара Аристарховна, что пора мне, пора тоже за ум взяться, свой хлеб добывать. Да чем? В приказные писцы идти, что ли, и весь век за гроши скрипеть пером?
Эхма! И стыдно-то, и смертельно скорбно. А роптать не моги. Сам же виноват. Переноси покорно.
Июня 13. Вечор горе свое в слезах растворил; а ныне вновь влетело, и от кого? От своей же родительницы, а там и от протодьякона соборного, о. Захария.
Сидим мы с матушкой за трапезой обеденной, а она на меня, знай, поглядывает и «ох!» да «ох!».
– О чем, – говорю, – маменька, вздыхаете?
А она:
– Ох, болезный ты мой! Кабы премудрости семинарские, как должно, произошел, быть бы тебе раз добрым пастырем…
– Оставьте, – говорю. – Такое мне, знать, предопределение вышло.
Отодвинул тарелку и встал из-за стола. А маменька:
– Куда ж ты, миленький, и чаю-то не попивши?
Ничего не сказал, иду к двери. А навстречу о. Захарий.
– Я, – говорит, – вас, матушка Серафима Исидоровна, пришел проведать: как во вдовстве своем живете-можете?
Маменька благодарствует за великую честь, что не забыл ее, вдовицу, просит откушать чаю стаканчик, а сама уже платок к глазам. Вопрошает тут о. протодьякон, о чем, мол, печалится.
– Да вот, – говорит, и пошла – сперва про собственную хворь свою, а там и обо мне, непутящем.
Озирает он меня искоса, словно медвежонка неприрученного, головой качает.
– Да что у паренька вашего, матушка, клепки одной разве в мозгу не хватает, скудоумен?
А маменька:
– Ай, нет, он у меня мозговитый…
– Так мало, знать, в бурсе лозами уму-разуму наставляли.
Тут и сам уже не выдержал.
– Каждую субботу нам, – говорю, – секуции общие чинили.
– Да не по винам, – говорит. – И нас тоже во времена оны единожды в неделю наказывали и все во благо. В гробу одной ногой стою, а доднесь тружусь, в поте лица моего снедаю хлеб свой.
Стал было я оправдываться, а он, не дослушав:
– Все сие, – говорит, – столь глупо, что уши вянут.
Маменька опять в слезы.
– Да нельзя ли его, о. протодьякон, хоть бы в причетники соборные поставить, а на дурной конец в пономари, что ли?
– Темна вода во облацех, – говорит, – еще не время, годами не вышел. Ну да уповайте на Бога; авось, еще сподобит.