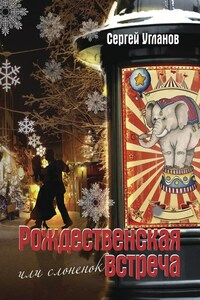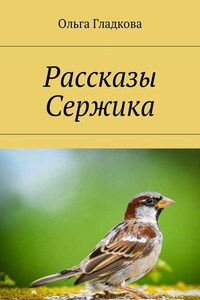Слышал, значит, это я недавно историю одну, об ихней принцессе, не помню, как ее величают-то. Ну, так вот, это уже у нас было, а потом уже заезжему немецкому барину рассказали.
А он, конечно, все приукрасил, разных фей понапускал, но это для большего пригляду-то. А дело было простое да давешнее, мне еще бабка рассказывала.
Жила, значит, у нас, у жены уездного приказчика, который в ту пору скончался уже, девчушка небольшого росточка, еле от земли-то видно. А хохотушка, на язычок остра, в рот палец не клади – откусит. А смышленая-то была, все на лету хватала. Да вот нужда ее к разному ремеслу-то и приучила. Она и шить, и рисовать, да разные штучки из камешков научилась делать всем на радость да на забаву. Но главное, глазок у нее был острый. Там, где другой пройдет и не заметит, так она в глине аль в руде какой пальчиком ковырнет, и прыгнет ей прямо в ладонь камешек белый, блестящий, и шлифовать не надо. И любили все ее за добрый и веселый нрав, за сердце незлопамятное. Да только нечасто она веселая-то бегала. Понятное дело, в прислугах, да еще у мачехи живет, у которой своих две дочки. Не до веселья будет. Вот и бегала она к деду своему посмотреть, как он разные штучки из камней делает. А он сделает украшение и даст Степаниде поиграть. А она наденет на себя бусы и кольца и пойдет выколупываться, кривляться, ну, играть, значит, будет. То как барыня пройдет, то покажет, как дочки капризные просыпаются и спорить начинают, кому из них раньше вставать надо. Ну а деду и радость – сядет на лавочку, посмеются вдвоем, потом пойдут чайку попьют. Да и побежит Степанида в дом мыть, стирать да пыль вытирать.
***
– Ты где же энто целый день шлялась? Ась? – напустилась на нее мачеха. Стоит, покраснела вся, руки в боки. Видите ли, ей чепчик с утра забыли возле подушки положить, вот она на всех и напустилась.
Ну а Степанида возьми да и скажи:
– Да чепчик с подушки сами во сне сбросили. На полу валяется. А самовар я уже два раза ставила. А вы все спать изволите. Ну я к деду своему и забежала.
А мачеха-то не привыкла, чтоб ей перечили. Она позеленела от злости, как же так, ей кто-то что-то сказал. Она и расшумелась, раскричалась, посуду всю перебила, платье все изодрала, только тогда и успокоилась. А дочки-то ее все и подтрунивают. Очень уж они не любили Степаниду-то. Одна из сестер и говорит:
– Смотри-ка, а ей все весело, смеется над нами!
А вторая нашептывает:
– А я вчера видала, как она перед зеркалом пела и кривлялась, во!
– Что, в моем доме, – закричала мачеха – устраивать всякое фря? Я покажу вам комедию. – Схватила зеркальце и об пол его хрясь. Оно и вдребезги. А зеркальце-то не простое, барином подаренное, ювелирной работы-то. Опомнилась знать, ан уже поздно. Села рядом на пол и завыла. А дочки с двух сторон подвывают да все нашептывают:
– Это все Степанида виновата, если бы не она, не разбила бы ты этого зеркальца антикварной работы аж из чистого хрусталя.
– Ой! Маменька, второго такого и во дворце не сыскать. Да вы еще и бусы хрустальные порвали, не собрать-то уже нитку жемчужную.
– А Степаниду наказать надо. В старую штольню послать. Да привязать ее там, чтоб не убежала.
– Ага! Пущай там посидит да подумает. Найдет камней драгоценных, вот тогда, может, и простим ее. А то парни только на нее и засматриваются. Срам просто!
На том и порешили.
Да о таком своеволии приказчицы узнал дед Матвей. Собрал всех своих слободских, идут с баграми, лопатами, а кто и с коромыслом, к дому, значит. А мачеха-то, знамо дело, перепугалась, Степаниду-то и отпустила, а сама бегом к барину. Он только что из-за границы с сыном приехал. Весь расфуфыренный такой. Разговаривают только на английский манер, по утрам кофе кушают да разным пряником закусывать изволят.
Забежала мачеха в дом к боярину, на колени бухнулась и давай его стращать. Что прислуга, дескать, взбунтовалась, саботаж там всякий устраивает. А главная заводила-то у них – это Степанида, народ, мол, подбивает на разбой там всякий. Змею подколодную пригрела на своей груди. А дом-то чуть не сожгли. Помогите, мол, отец родной.
– Я такого своеволия терпеть не буду. Всех в острог посажу. А защитницу на цепь да в штольню. Пущай там посидит да пообразумится малость-то.
Ну, поохали все, поохали. А что делать, против барина не пойдешь. А как помочь девушке, не знают – знамо дело, начальство. Хотел дед Матвей к барину идти да в ноги ему поклониться да всю правду-то и рассказать, все оно как есть-то. А барин-то и не принимает никого, свое горе-то – сын единственный, что из английских земель вернулся, загрустил. Говорят, зазноба его там осталась. Все забыть никак не может, горемычный. Не ест, не пьет, все только на портрет ихний смотрит да вздыхает тяжко так. Извелись все. Все, что не делают, все не так да не эдак. А какой парень видный был, чубастый. Глаза огнем горят, веселый да гордый. Ну, совсем не боярский сын. Это потому что нянькой у него наша уездная слободская была, вот и нянчила его да байки ему всякие рассказывала. Вот и вышел парень видный, да добрый. Ну а то, что с молоком матери в тебя вошло, ни огнем не выжечь, ни топором не вырубить, знамо дело-то. Во. Перепугалась барыня, дитя единственное чахнет прямо не по дням, а по часам.
– Ой, что делать будем, Поликарп? – так, значит, барина звали. – Помирает сын-то. Не ест, не пьет, все на портрет смотрит, исхудал-то весь. Еще, чего доброго, заговариваться станет.
Ну а что делать-то, не знают. Думали-думали, гадали. Ну и решили его женить. Да как женить-то, коль он из дому не выходит, ни на кого не смотрит. Все зазнобу-то свою забыть не может. Тут уж и барин не на шутке встревожился и говорит:
– Кто сможет сына моего единственного из ентого дурмана вывести да радость вернуть, как прежде, значит, дом построю. Да еще с мешком золота вручу.
Тут суматоха-то и началась. Стали к барину девок разных приводить. Вначале все слободские хороводы вокруг дома водили, потом городские стали приезжать. То ему на фортепианных играют, глазками хлопают, по-англицски лопочут. Чудно так говорят все, да все равно без толку. Он сидит на портрет все смотрит и молчит, как пень. И никакого интересу не проявляет. А одна, из ихней Америки, так вообще полуголой залезла на стол, последнюю одежонку с себя сдернула и давай себя плетью бить-то. Это, наверное, чтоб не стыдно на столе без одежды стоять было. А то иначе зачем же себя да еще плетью-то бить?
Терпел молодой барин до последнего, да уж не выдержал, родителям и говорит:
– Больше эту срамоту смотреть и слышать не могу. Делайте что хотите, но чтобы духу здесь больше никого не было. А то уеду от вас обратно в англицкую землю.