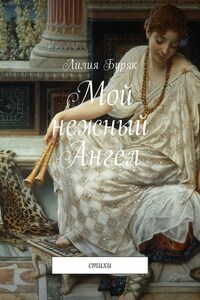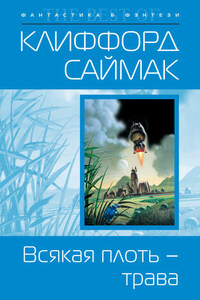Читателям Тимура Кибирова
К публике Тимур Кибиров пришел сложившимся поэтом. Случилось это давно – двадцать лет назад, в громокипящем (точнее, пожалуй, – резвоскачущем) 1988 году.
На вопрос о том, когда был обретен Кибировым неповторимый голос, ответить затруднительно. Голос этот вполне отчетливо слышен в большинстве известных нам сочинений, писаных незадолго до прорыва в печать, и можно лишь посетовать, что за пределами предлагаемого итогового изборника остались поэмы «Лесная школа», «Буран» (обе – 1986), «Сквозь прощальные слезы» (1987), «Три послания» («Л. С. Рубинштейну», «Любовь, комсомол и весна. Д. А. Пригову», «Художнику Семену Файбисовичу»; 19 87–1988) и ряд стихотворений той поры («После словие к книге „Общие места“, „Ветер перемен“, „Ничего не пила со вчерашнего дня…“, „Шаганэ ты моя, Шаганэ…“, „Какая скверная земля…“, „Рождественская песнь квартиранта“, „В новом, мамой подаренном зимнем пальто…“). Во второй – долго ждавшей своего часа, а потому припоздавшей – книге Кибирова „Календарь“[1] (Владикавказ, 1991) самые ранние опусы относятся к середине семидесятых (надикт ованные армейскими буднями стихи из цикла «Слово о полку Н‑ском» сопровождены двойной датировкой – 1975–1979). Существенно, однако, что многие мотивы «Календаря» станут смысловыми ядрами поэтической системы зрелого Кибирова, а иные стихотворения обретут новую жизнь в его позднейших книгах. Так «Эпитафии бабушкиному двору» (1984) войдут в «Сантименты» (1989). В книге «Послания Ленке и другие сочинения» найдется место стихам из цикла «Каникулы» (1984; «Майский жук прилетел…», «Карбида вожделенного кусочки…», «На коробке конфетной – Людмила…», «Скоро все это предано будет…») и «Идиллии. Из Андрея Шенье». Включенное в ту же книгу «Послание Сереже Гандлевскому. О некоторых аспектах нынешней социокультурной ситуации» строится на фундаменте «Четырехстопных ямбов» (1983). Исступленно мрачное, весьма изысканно построенное, но прежде не публиковавшееся стихотворение 1982 года «Для того, чтоб узнать…» Кибиров приводит в «Улице Островитянова» (1999), снабдив иронично-горьким постскриптумом: „Вот такие вот пошлости“ / я писал лет семнадцать назад». Здесь же под названием «Подражание псалму» помещено известное по «Календарю» стихотворение «Нет мочи подражать Творцу…» (1982) с заменой третьей строфы (первоначальный вариант – «Эй, кто смеется мне в лицо? / Ты кто? – Никто, Ничто. / И мне ли быть всему творцом / Средь пустоты густой?», вариант окончательный читатель найдет в этой книге). Появившаяся в год тридцатилетия (по Пушкину – «рокового термина») формула «юбилей лирического героя» пятнадцать лет спустя стала заглавьем очередной книги (2000). Особенно примечательна судьба «Гравюры Дюрера» (1980), воспроизведенной (с минимальной правкой) в книге «Шалтай-Болтай» (2002) и, вероятно, стимулировавшей появление там всего цикла «Пинакотека». Рискну предположить, что когда (если) будущему историку словесности представится возможность прочесть отроческие и юношеские вирши Кибирова, то и там обнаружатся знакомые ноты – то, что поэт по сей день (буквально) не перестает измываться над своими дебютными «декадентскими» воспарениями, кажется, не опровергает эту гипотезу, но ее усиливает. Экскурсы в предысторию (причем не только в ее «дописьменный» младенческо-детско-отроческий период, но и во времена запойного юношеского стихотворства) Кибиров совершает постоянно, вплоть до вошедшей в последнюю книгу лирико-дидактической поэмы «Покойные старухи». Автобиографический миф о рождении поэта – неотъемлемая часть творимого им мира.
Двадцать лет – срок изрядный при любых условиях. Если же в этот временной промежуток укладывается несколько «эпох» (наш случай) – тем паче. Первые пришедшие к публике стихи Кибирова привораживали многих читателей исторической точностью, умением поймать и запечатлеть дух бешено ускорившегося в ту пору времени. Лирический историзм поэт безусловно сохранил, а потому череда его сочинений вполне может читаться как своего рода «славная хроника», служить надежным, хотя и требующим особой оптики, источником по истории российской культуры (и/или общественной жизни) 1980‑х – 2000‑х годов. Фиксируя постоянные изменения социокультурного пейзажа, Кибиров с той же точностью и смелостью открывал миру приключения собственного духа, выстраивал детализированное повествование о своей блуждающей судьбе. Мена метрических, стилевых и жанровых доминант была не только наглядной, но и демонстративной. Совершая очередной поворот, Кибиров почти всегда прямо предлагал читателям настроиться на новую волну и «облегчал жизнь» интерпретаторам, подкладывая удобную схему «периодизации творческого процесса».
Двигаясь по предложенному Кибировым маршруту, следует, однако, помнить, что сколь угодно изощренные, неожиданные и дразнящие вариации обретают подлинный смысл (а потому способны привлечь внимание, стать расслышанными и понятыми) лишь в том случае, когда мы ощущаем властное присутствие рождающей их единой темы. Иначе говоря – судьбы поэта. Едва ли русский читатель способен представить себе более стремительную эволюцию и более широкий поэтический мир, чем пушкинские, но именно Пушкин однажды (и отнюдь не случайно) вымолвил «Каков я прежде был, таков и ныне я…» Истинный поэт остается собой при любых обстоятельствах. Вопреки иронично обыгранной (по сути – непреклонно оспоренной) Кибировым премудрости (равно любезной исполнительному чиновнику и высоколобому поставщику интеллектуальных бестселлеров) поэт в конечном счете не зависит от контекста. Как не должен зависеть от него всякий человек, о чем и напоминает ему поэтическое слово. Чем прихотливее узоры, тем яснее общий рисунок, чем ощутимей организующий стиховую ткань диалог, тем отчетливее единственный (и потому – узнаваемый) голос поэта.
Суть поэзии Тимура Кибирова в том, что он всегда распознавал в окружающей действительности «вечные образцы» и умел сделать их присутствие явным и неоспоримым. Гражданские смуты и домашний уют, трепетная любовь и яростная ненависть, шальной загул и тягомотная похмельная тоска, дождь, гром, снег, листопад и дольней лозы прозябанье, модные шибко умственные доктрины и дебиловатая казарма, «общие места» и безымянная далекая – одна из мириад, но единственная – звезда, старая добрая Англия и хвастливо вольтерьянствующая Франция, солнечное детство и простуженная юность, насущные денежные проблемы и взыскание абсолюта, природа, история, Россия, мир Божий говорят с Кибировым (а через него – с нами) только на одном языке – гибком и привольном, гневном и нежном, бранном и сюсюкающем, певучем и витийственном, темном и светлом, блаженно бессмысленном и предельно точном языке великой русской поэзии. Всегда новом и всегда помнящем о Ломоносове, Державине, Баратынском, Тютчеве, Лермонтове, Фете, Некрасове, Козьме Пруткове, Блоке, Ходасевиче, Мандельштаме, Маяковском, Пастернаке и Корнее Ивановиче Чуковском. Не говоря уж о Пушкине.