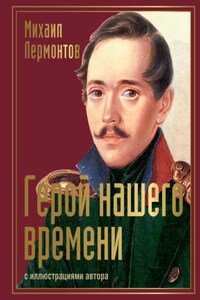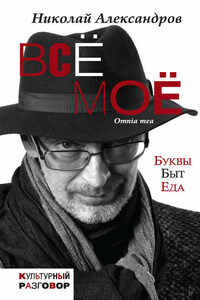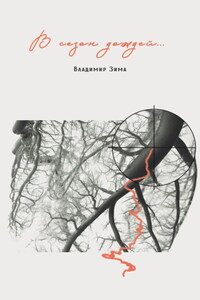Мистер Аттерсон, нотариус, чей брутальный лик никогда не освещался даже лёгким отблеском улыбки, был воистину вещью в себе, шкафом, замкнутым на все замки, молчуном, из которого можно было вытянуть слово только под пытками, увальнем, чья неловкость в обществе была притчей во языцех, вытянутым, иссохшим, как мумия, пыльным, скучным и мрачным типом, но по сути, человеком в чём-то чрезвычайно симпатичным. В хорошей, тёплой компании, под любимое винцо, его мрачные, стеклянные глаза постепенно начинали оттаивать, и в конце концов оттаивали до такой степени, что в них начинал загораться маленький огонёк трепетной человечности, которой, впрочем, никогда не отражался в его речах. Эта доброта концентрировалась не только в патетическом до благодушия послеобеденном молчании, но и в его добрых делах, причём в делах даже ярче и громоподобнее, чем где бы то ни было. Ему была присуща неукротимая требовательность к самому себе: обедая всегда в одиночестве, он, укротив неудержимую тягу к элитным винам, принципиально глотал джин, и изнемогая от влекущего магнетизма театральных искусств, не менее двадцати лет не считал нужным даже одним глазом заглянуть в предбанник театра. При этом слабости ближних отражались в нём неискоренимой снисходительностью, выражавшейся в лёгкой зависти, с которой он присматривался к их цветущему жизнелюбию их навязчивых грёз, и дождавшись часа расплаты, обычно ограничивался поддержкой, но никогда не порицанием.
– Каинова ересь – моя излюбленная фишка! – вбивал он тезисы, как вбивают гвозди мерными ударами молотка, – Не мой удел мешать братьям по крови выбирать наиболее эффективные пути погибели! Они сами должны определиться со своими предпочтениями и вкусами!
Странным образом судьбе было угодно сделать его последним товарищем множества некогда очень высоких, но со временем опустившихся людей, источником последних высоконравственных влияний в их жизни. И когда они в очередной раз появлялись в его жизни, он вёл себя с ними точно так же, как всегда.
Такого рода поведение давалось мистеру Аттерсону шутя, потому что он никогда не выходил из себя и был весьмма сдержан во всех своих проявлениях и казалось, что даже его дружелюбие проистекает из его всепроникающей благожелательности.
Прирождённой скромности свойственно брать свой ближний круг из рук Провидения, и нашему нотариусу ничего не оставалось, кроме как поступать именно таким образом. Вокруг него кучковались либо только родственникик, либо давнишние знакомцы. Его привычка к определённым людям, как ползучий плющ, питалась пристрастием времени и никоим образом не свидетельстовала ни о душевных, ни о человеческих свойствах окружающих.
Именно такими, по всей вероятности, и были старые узы, которыми нотариус был связан со своим дальним родственником мистером Ричардом Энфилдом, знаменитым предводителем записных лондонских бонвиванов. Окружающие всё время ломали голову, что может связывать столь разных представителей человеческой породы с таким разным воспитанием и пристрастиями. Видя их во время обычных воскресных прогулок, люди вспоминали потом, что они всегда шли рядом с таким отчаянно скучающим видом, как будто только что оба проглотили кочергу. При этом из вид был полн такой скуки, что встреча какого-нибудь общего знакомца исторгала из двух пыльных грудей вздох общего облегчения. Как ни странно, при этом они оба чрезвычайно любили эти прогулки, никогда не пропускали их, и готовы были пожертовать ради них всем, чем угодно. Эти прогулки считались у них венцом и украшением финала недели, они задолго планировали их и были готовы ради их проведения жертвовать даже самым необходимым, например, сопутствующими развлечениями, которые могли отложить сразу и на неопределённое время.
В одно из таких волшебных воскресений ветер странствий занёс их на какую-то мутную, мелкую улочку в одном деловом квартале на окраине Лондона. Улочка была маленькая, и прямо надо сказать, тишайшая, несмотря на то, что в будние дни тут кипела бурная торговая толкотня. Судя по всему, жители улочки не то, что не бедствовали, но явно преуспевали, не собираясь останавливаться на достигнутом и мечтая достичь ещё большего преуспеяния и богатства. Было видно, что здесь царило довольство и преуспеяние, которое пускалось на красоту, а посему бесконечныевитриныпо обеим сторонам улицы блистали благодушием, похожие на улыбающихся манекенщиц.
В воскресенье, когда улица представала в своём наиболее тихом и спокойном виде, и все её торговые прелести были не видны. Но и временно пустынная, по сравнению с убожеством окружающих улиц она сверкала подобно тому, как сверкает костёр в ночном лесу или рождественская ёлка в Сочельник. Может быть то, что кругом царила абсолютная пустота, взор зрителя поневоле останавливался на девственном, нестерпимом блеске дверных ручек и мог уловить общую атмосферу невиданной чистоты и нескрываемого веселья, которые, конечно же, не могли не очаровывать взгляды случайных прохожих.
Если смотреть по левой стороне улицы и двигаться в восточном направлении, там прямо через две двери с угла общий ритм фасада нарушается аркой, ведущей во двор, пройдя через которую сразу упираешься в мрачное, массивное здание. Собственно говоря видна только глухая стена, в этом двухэтажном здании нет ни одного окна, довольно унылая картина, состоящая из невнятной двери внизу и угрюмого, серого, наморщенного, заляпанного грязью лба стены наверху. Общая картина, так же, как детали её, свидетельствовали о крайней степени запущенности и нескрываемому наплевательству хозяев к своему имуществу. Облупленная, в каких-то мрачных разводах, дверь не содержала ни единого намёка ни на звонок, ни на молоток. Вид двери сразу начинал манить бродяг расположиться на отдых в глубокой дверной нише, чем они, судя по затёртым их спинами панелям, и всегда пользовались. Здесь сразу начинал ощущаться дух животной вольницы, не свойственный всей улице и даже противной ей. Бродяги лениво чиркали спичками по её шершавым панелям, ребятня играла здесь в свои немудрёные игры, предпочитая игру «в магазин» на расшатаных ступенях крыльца, школяры по привычке демонстрировали приятелям остроту своих перочинных ножиков, вырезая свои инициалы на резных облезлых под дождями балясинах, и уже долгие годы никто не сталкивался с тем, чтобы эти бесчинства были кем-то пресечены. Никогда не открывалась дверь, никто не прогонял незванных гостей и некому было исправлять случайные последствия их бесчинств. Общая картина этого владения создавала впечатление, что имение покинуто и в нём давно нет ходяина, да и вообще никакого присмотра.