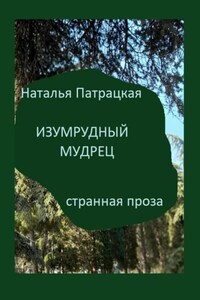Апрель. 1953 год.
Отчаянье берет за горло. Не дает дышать. Душит. От него есть лишь одно спасение, и она шаг за шагом идет к нему. Медленно. Не обращая ни на что внимания, сжимая в руках сладко пахнущий букет мимоз. И с каждым шагом все сильнее крепнет ее решимость.
Мимо несутся автомобили, и она невольно вглядывается в лица водителей, словно надеясь увидеть среди них Его. Как будто это может хоть что-то изменить. Разумеется, Он ее не остановит, не спасет. Не стоит и надеяться.
Надежда – глупое слово. Ему не место на Бруклинском мосту.
– Ты что творишь, дура?! – из тормозящих перед ней автомобилей сыплются ругательства и грубые, настойчивые рекомендации сойти с проезжей части, но молодая женщина этого не слышит, крепче сжимая в руках цветы и подарок – жестокую, бездушную насмешку, всученную на прощание.
Медленно перейдя проезжую часть, она подходит к ограждению и зажимает желтый букетик между страниц, чтобы освободить руку.
Зеркальная гладь темных вод гипнотизирует и пугает. Женщина слышит этот страшный зов пустоты ясно и четко как никогда. Что-то внутри неё надломилось и продолжает ломаться все сильнее.
Скоро всему придет конец. Ещё немного. Уж решимости ей точно хватит. Она больше не повторит ошибок, как Он и советовал.
«Интересно, когда… если Он узнает, то раскается ли хоть немного в своем поступке?»
Хотя, конечно, вряд ли.
Поджав губы, женщина скидывает черный плащ и остается лишь в тонком белом платье. Она перебирается через ограждение и судорожно сжимает стальную перекладину, ещё не решаясь сделать последний шаг в бездну.
Одной рукой прижимая к груди букет и книгу, а пальцами второй цепляясь за сталь, она замирает на самом краю, зябко ёжась от прикосновения холодного весеннего ветра. Тело бьет крупная дрожь.
– Прости меня. Ради Бога, прости… – шепчет она тихо, и ветер подхватывает ее слова, унося их куда-то вдаль.
Сзади кто-то кричит громогласно и отчаянно:
– Ники!
Женщина порывисто поворачивается и видит, как по проезжей части к ней бежит дорогой ее сердцу мужчина, но он не тот, кого бы она хотела сейчас здесь увидеть, не тот, кто смог бы ее остановить. Глаза начинают щипать непрошеные, совершенно ненужные слезы.
– Прости!.. – шепчет она, дрожащими губами. – Прости меня!
Он мчится к ней так быстро, что складывается впечатление, что он может обогнать даже ветер, с каждым мгновением становясь все ближе.
Нужно прыгать сейчас, пока он не добежал, не остановил, не втащил ее назад, в безопасность и не закутал в удушающее чувство вины.
Она делает шаг в пустоту лишь за мгновение до того, как он успел бы схватить ее за руку, но его пальцы ловят лишь книгу, которую ей не удалось удержать в руке.
Несколько мгновений она летит навстречу темной водной глади, и последнее, что слышит перед сильным ударом о воду, который сломает ее позвоночник – громкий, отчаянный крик:
– Вероника!
2
Февраль. 1954 год.
Вебер невыносимо скучает. Он вполне искренне недолюбливает театры, полагая, что время можно провести куда с большим толком. Тем более, театром он и так сыт на работе, но все же исправно посещает представления пару раз в месяц. Светская жизнь налагает на него целый ряд скучных, неинтересных обязанностей. Впрочем, дело не только в этих пресловутых обязанностях. Герр Вебер любит «поохотиться» именно в театрах и на светских мероприятиях, где внешний вид публики способствует этому как нельзя более кстати.
Медленно, даже лениво скользя взглядом по знакомым и незнакомым лицам, Вебер то там, то здесь подмечает симпатичные мордашки и будоражащие кровь фигуры, прикрытые соблазнительными модными платьями. Все как всегда.
Где-то справа, недалеко от дверей, ведущих в партер, собралась какая-то абсолютно невообразимая толпа людей – но стоит присмотреться, и можно увидеть причину давки – на премьеру новой постановки пожаловала никто иная, как Патрисия Миллиган. Не узнать женщину, чьи большие оленьи голубые глаза смотрят на тебя со всех обложек модных журналов, и которая вот уже на протяжении пары лет светится в каждой второй киноленте, довольно сложно.
«И все же на лицо простовата…» – заключает мужчина мысленно, наблюдая, как причина тотального обесцвечивания волос женской части населения США в платье цвета шампань – в тон ее длинных платиново-белых волос – одаривает поклонников томными улыбками.
Хмыкнув себе под нос, Вебер поворачивается в другую сторону, продолжив сканировать зал.
И словно в противовес ангелоподобной кинодиве и исходящему от нее свету, там сгустился мрак. Густая, беспроглядная тьма, принявшая образ хрупкой темноволосой женщины в каком-то совершенно немыслимом черном платье. Затейливый вырез полностью оголяет ее молочно-белые плечи, а платье удерживается на теле при помощи не иначе как темных магических сил – иных способов объяснить, как оно не спадает, обнажая хозяйку, невозможно. Вместе с тем, чем дольше глаз наблюдает за дразнящей игрой этой чёрной ткани, тем острее ощущается какое-то абсолютно неуемное желание сорвать это чертово платье, разметав бархатные пуговицы по полу…
Незнакомка – Вебер готов побожиться, что раньше ее не видел – стоит, прислонившись к колонне, и с веселым любопытством разглядывает толпу мужчин, кружащихся вокруг Патрисии. Любая другая на ее месте, несомненно, завелась бы от обычной женской зависти, а эта вот забавляется.
Такой экземпляр никак нельзя упустить – она обещает стать весьма интересным трофеем в его коллекции.
Раздобыв два бокала шампанского, Вебер подходит со спины к намеченной жертве.
– Дьявольски прекрасная женщина! – тихо произносит он и, едва удостоившись насмешливого взгляда незнакомки, продолжает. – Я не о Миллиган. О вас, королева.
Молодая женщина, слегка приподняв брови, чуть поворачивает лицо в его сторону, пытаясь подавить улыбку.
– Джентльмены предпочитают блондинок, – звучит ее голос, грудной и тихий. Вебер безошибочно угадывает чуть заметный итальянский акцент, но мысленно заключает, что южная кровь сильно разбавлена – слишком уж нетипично выглядит ее лицо, слишком чужда югу эта молочно-белая тонкая кожа.
Женщина принимает из его рук бокал и абсолютно беззастенчиво ведет по краю кончиком указательного пальца.
– Можете считать, что я не джентльмен, – усмехается он, наблюдая за ее действиями, – и тем не менее, уверяю, яда там нет.
Она хмыкает, поджав обведенные вишневой помадой губы, делает небольшой глоток и вновь устремляет задумчивый взгляд куда-то в толпу. Вебер рассматривает мелкие, тонкие черты ее лица, демонстрирующие не миловидную сексуальность, но «породу» и эстетику строгих линий.