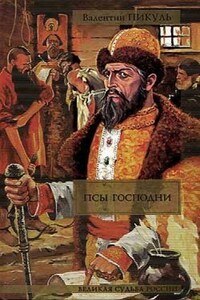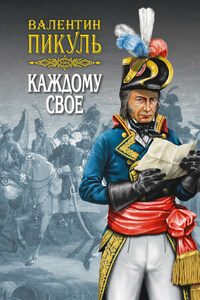Прошлое навсегда погребено на гигантском кладбище того же прошлого, которое мы так редко теперь навещаем.
Однако мне, живущему там, откуда еще никто не возвращался, намного легче перемещаться в пространствах времени, и потому в былой жизни России я имею немало хороших знакомых. Но средь великого множества женщин, платья которых давно и ликующе отшумели, одна уже много лет тревожит мое хладеющее воображение. Вот и сегодня – «встала из мрака младая с перстами пурпурными…».
Так уж получилось, что после изнурительных и долгих сомнений – писать или не писать, забыть или вспомнить? – я начинаю эту вещь именно 8 марта, который не ахти как волнует наших жен, зачастую униженных, оскорбленных и разгневанных, ибо их жизнь складывается совсем не так, как о ней мечталось.
Но сначала я вынужден побывать в Ницце, и, конечно, из потемок памяти сразу всплывают незабвенные строки:
О этот юг, о эта Ницца!
О как их блеск меня тревожит…
С давних времен в Ницце существовал отель-пансионат по названию «Родной угол», устроенный мадам М. М. Соболевой близ приморского променада; здесь к услугам заезжих была русская кухня с русской же прислугой, хорошо подобранная русская библиотека.
Летом 1923 года «Родной угол» приютил двух эмигрантов – пожилого и молодого. Блистательный и фееричный Санкт-Петербург – парадиз великой империи – для них уже навсегда растворился в непознаваемом отчуждении, и оба оставались равнодушны к ароматам цветов в роскошном, но чужестранном саду.
Радостных эмоций меж ними не возникало.
– Трагедия в том, – рассуждал пожилой, – что отныне в России право заменили указами. А роль адвоката, как защитника слабых, низведена до роли ассистента палача, обеспокоенного лишь качеством веревки. Интерес к юридическим правам личности низведен до ничтожного уровня, а мы – витии прошлого! – уходим в небытие с гнусным клеймом «платных наемников буржуазии». О чем тут говорить? Интеллигенция на Руси никогда не была сословием, но сейчас ее сделали «прослойкой», обязанной покорно признавать идейное превосходство победившего пролетариата, который отныне почитается главным знатоком классовой борьбы. Нет, милый Сережа, в этой России, порождающей робеспьеров и маратов из разино-пугачевского наследия, мои эмоции никому не нужны… Будем помирать в «Родном углу»!
Так говорил Николай Платонович Карабчевский писателю Карачевцеву, желавшему побыть при нем в роли известного Эккермана. Понуждая старика к откровенности, он даже не скрывал, что собирает материал для книги о нем. Да, еще недавно Карабчевский был очень знаменит – оратор и писатель, поэт и адвокат, Николай Платонович всю жизнь считал, что нет выше звания присяжного поверенного, и в 1917 году Керенский напрасно соблазнял его званием сенатора. Карабчевский отказался.
– Нет уж! – сказал он. – Я желаю умереть в первых шеренгах лейб-гвардии российской адвокатуры – именно столичной…
На громогласных лирах старой адвокатуры было натянуто немало певучих струн, и каждая мощно звучала: присяжных поверенных знали на Руси как писателей, публицистов, драматургов, психологов и даже актеров. Карабчевский эмигрировал, когда уличная толпа сожгла здание столичного суда – не стало храма судебных реформ, значит, не нужны и жрецы справедливости.
Теперь, затворенный в «Родном углу», Николай Платонович печально воскрешал в памяти те громкие процессы, в которых когда-то блистало его имя. Сергей Карачевцев торопливо записывал, неожиданно вспомнив женское имя – Ольга Палем:
– Что вы можете сказать о ней?
Николай Платонович заметно оживился.
– Я глубоко убежден, – отвечал он, – что каждая женщина хотя в душе и ранимее нас, мужчин, но она и намного терпеливее нас, мужчин. Особенно в те периоды своей жизни, когда она любит. В этом я убежден. Женщина может сносить от любимого человека многие обиды и оскорбления, она способна очень многое прощать. Но… пусть мужчины не обольщаются!
Он замолк. Карачевцев осторожно напомнил:
– Продолжайте… Как мне понимать вас?
– А так, юноша, и понимайте. Женщина прощает почти все мужчине, которого она любит. Но в ее любви имеется очень опасный предел. Тогда женщина как бы «взрывается». И, взорвавшись, она обязательно отомстит. Рано или поздно, но – отомстит! Я думаю, – заключил Карабчевский почти торжественно, – женщина имеет на эту месть природное право…
– Мне позволено так и записать? – спросил биограф.
– Да, так и запишите. Пусть знают все. Надо ценить женщин. Надо беречь женщин. Надо уважать женщин, имевших несчастье полюбить мужчин, недостойных большой женской любви…
Через два года после этой беседы Карабчевский угас, и его прах был предан земле на отдаленном кладбище Рима, уже тогда заброшенном. Так завершилась жизнь человека, о котором наши историки теперь начинают вспоминать.
Конечно, читатели вправе спросить меня, почему я назвал свой роман «бульварным»? Отвечу. Всю жизнь я писал военно-политические романы, но критики упрямо именовали меня «бульварным» писателем. И чем больше становился накал патриотизма в моих исторических романах, тем настойчивее блюстители порядка обвиняли меня именно в «бульварщине».
Наконец я понял, что угодить нашим литературно-газетным Зоилам можно лишь одним изуверским способом – написать воистину бульварный роман, дабы их мнение обо мне, как о писателе, полностью подтвердилось. Заодно уж я, идущий навстречу своим критикам, щедро бросаю им жирную мозговую кость…
Я писал эту вещь на примере исторических фактов столетней давности, но думается, что вопросы любви и морали в прошлом всегда останутся насущными и для нашего суматошного времени.
1. «Я ЖИЛ ТОГДА В ОДЕССЕ ПЫЛЬНОЙ»
Господа присяжные заседатели!.. В обстановке довольно специфической – трактирно-петербургской, с осложнениями в виде кружки Эсмарка на стене и распитой бутылки дешевого шампанского на столе, стряслось большое зло. На грязный трактирный пол ничком упал молодой человек, подававший самые блестящие надежды на завидную карьеру…
Н. П. Карабчевский. «Речи».
Но один из старожилов этого города высоко оценивал даже легендарную пыль: «Прежняя одесская пыль была не такою, как ныне – она была благоуханной, как пыльца цветов. Море, степи, акации были причиной ея аромата». Этот же мемуарист здраво мыслил, что даже солнце светило одесситам совсем иначе: «О доброе старое одесское солнце! – восклицал он. – Где ты? Куда сокрылось? Теперь восходит какое-то бледное светило, но это вовсе не то, что было раньше…»
Сто лет назад Одесса, извините, все-таки была веселее и наряднее; ее улицы и площади хранили святость исторических названий; памятники тоже оставались незыблемы, на их пьедесталах красовались тогда совсем иные герои – не те, что разрушали, а те, которые Одессу созидали. Кстати уж, оставив в стороне Потемкина, Ришелье, Ланжерона, Дерибаса и Воронцовых, я вам напомню, что Одесса славилась не только босяками с Куликова поля, не одними тряпичниками с Чумной горы. В разное время здесь проживали последний в России граф Разумовский, неаполитанская королева Каролина, из Одессы вышла барышня Наталья Кешко, занявшая престол Обреновичей, наконец, одесситы не забывали и знаменитого Джузеппе Гарибальди.