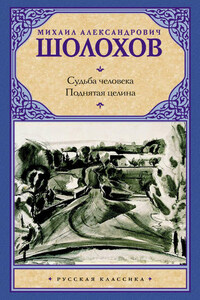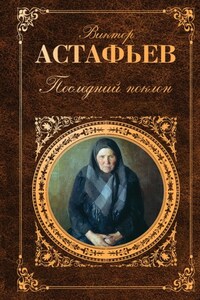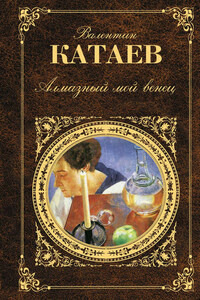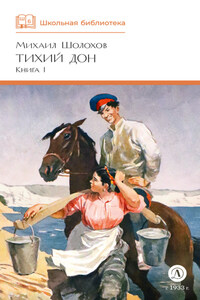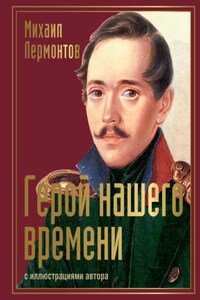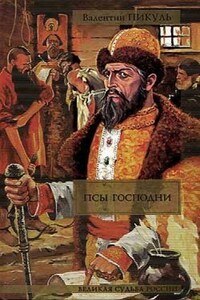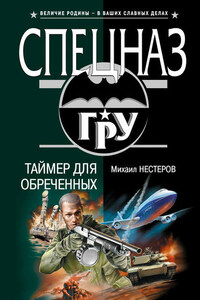Евгении Григорьевне Левицкой, члену КПСС с 1903 года
Первая послевоенная весна была на Верхнем Дону на редкость дружная и напористая. В конце марта из Приазовья подули теплые ветры, и уже через двое суток начисто оголились пески левобережья Дона, в степи вспухли набитые снегом лога и балки, взломав лед, бешено взыграли степные речки, и дороги стали почти совсем непроездны.
В эту недобрую пору бездорожья мне пришлось ехать в станицу Букановскую. И расстояние небольшое – всего лишь около шестидесяти километров, – но одолеть их оказалось не так-то просто. Мы с товарищем выехали до восхода солнца. Пара сытых лошадей, в струну натягивая постромки, еле тащила тяжелую бричку. Колеса по самую ступицу проваливались в отсыревший, перемешанный со снегом и льдом песок, и через час на лошадиных боках и стегнах, под тонкими ремнями шлеек, уже показались белые пышные хлопья мыла, а в утреннем свежем воздухе остро и пьяняще запахло лошадиным потом и согретым деготьком щедро смазанной конской сбруи.
Там, где было особенно трудно лошадям, мы слезали с брички, шли пешком. Под сапогами хлюпал размокший снег, идти было тяжело, но по обочинам дороги все еще держался хрустально поблескивавший на солнце ледок, и там пробираться было еще труднее. Только часов через шесть покрыли расстояние в тридцать километров, подъехали к переправе через речку Еланку.
Небольшая, местами пересыхающая летом речушка против хутора Моховского в заболоченной, поросшей ольхами пойме разлилась на целый километр. Переправляться надо было на утлой плоскодонке, поднимавшей не больше трех человек. Мы отпустили лошадей. На той стороне в колхозном сарае нас ожидал старенький, видавший виды «виллис», оставленный там еще зимою. Вдвоем с шофером мы не без опасения сели в ветхую лодчонку. Товарищ с вещами остался на берегу. Едва отчалили, как из прогнившего днища в разных местах фонтанчиками забила вода. Подручными средствами конопатили ненадежную посудину и вычерпывали из нее воду, пока не доехали. Через час мы были на той стороне Еланки. Шофер пригнал из хутора машину, подошел к лодке и сказал, берясь за весло:
– Если это проклятое корыто не развалится на воде, – часа через два приедем, раньше не ждите.
Хутор раскинулся далеко в стороне, и возле причала стояла такая тишина, какая бывает в безлюдных местах только глухою осенью и в самом начале весны. От воды тянуло сыростью, терпкой горечью гниющей ольхи, а с дальних прихоперских степей, тонувших в сиреневой дымке тумана, легкий ветерок нес извечно юный, еле уловимый аромат недавно освободившейся из-под снега земли.
Неподалеку, на прибрежном песке, лежал поваленный плетень. Я присел на него, хотел закурить, но, сунув руку в правый карман ватной стеганки, к великому огорчению, обнаружил, что пачка «Беломора» совершенно размокла. Во время переправы волна хлестнула через борт низко сидевшей лодки, по пояс окатила меня мутной водой. Тогда мне некогда было думать о папиросах, надо было, бросив весло, побыстрее вычерпывать воду, чтобы лодка не затонула, а теперь, горько досадуя на свою оплошность, я бережно извлек из кармана раскисшую пачку, присел на корточки и стал по одной раскладывать на плетне влажные, побуревшие папиросы.
Был полдень. Солнце светило горячо, как в мае. Я надеялся, что папиросы скоро высохнут. Солнце светило так горячо, что я уже пожалел о том, что надел в дорогу солдатские ватные штаны и стеганку. Это был первый после зимы по-настоящему теплый день. Хорошо было сидеть на плетне вот так, одному, целиком покорясь тишине и одиночеству, и, сняв с головы старую солдатскую ушанку, сушить на ветерке мокрые после тяжелой гребли волосы, бездумно следить за проплывающими в блеклой синеве белыми грудастыми облаками.
Вскоре я увидел, как из-за крайних дворов хутора вышел на дорогу мужчина. Он вел за руку маленького мальчика, судя по росту – лет пяти-шести, не больше. Они устало брели по направлению к переправе, но, поравнявшись с машиной, повернули ко мне. Высокий, сутуловатый мужчина, подойдя вплотную, сказал приглушенным баском:
– Здорово, браток!
– Здравствуй. – Я пожал протянутую мне большую, черствую руку.
Мужчина наклонился к мальчику, сказал:
– Поздоровайся с дядей, сынок. Он, видать, такой же шофер, как и твой папанька. Только мы с тобой на грузовой ездили, а он вот эту маленькую машину гоняет.
Глядя мне прямо в глаза светлыми, как небушко, глазами, чуть-чуть улыбаясь, мальчик смело протянул мне розовую холодную ручонку. Я легонько потряс ее, спросил:
– Что же это у тебя, старик, рука такая холодная? На дворе теплынь, а ты замерзаешь?
С трогательной детской доверчивостью малыш прижался к моим коленям, удивленно приподнял белесые бровки.
– Какой же я старик, дядя? Я вовсе мальчик, и я вовсе не замерзаю, а руки холодные – снежки катал потому что.
Сняв со спины тощий вещевой мешок, устало присаживаясь рядом со мною, отец сказал:
– Беда мне с этим пассажиром. Через него и я подбился. Широко шагнешь – он уже на рысь переходит, вот и изволь к такому пехотинцу приноравливаться. Там, где мне надо раз шагнуть, – я три раза шагаю, так и идем с ним враздробь, как конь с черепахой. А тут ведь за ним глаз да глаз нужен. Чуть отвернешься, а он уже по лужине бредет или леденику отломит и сосет вместо конфеты. Нет, не мужчинское это дело с такими пассажирами путешествовать, да еще походным порядком. – Он помолчал немного, потом спросил: – А ты что же, браток, свое начальство ждешь?
Мне было неудобно разуверять его в том, что я не шофер, и я ответил:
– Приходится ждать.
– С той стороны подъедут?
– Да.
– Не знаешь, скоро ли подойдет лодка?
– Часа через два.
– Порядком. Ну что ж, пока отдохнем, спешить мне некуда. А я иду мимо, гляжу: свой брат-шофер загорает. Дай, думаю, зайду, перекурим вместе. Одному-то и курить, и помирать тошно. А ты богато живешь, папироски куришь. Подмочил их, стало быть? Ну, брат, табак моченый, что конь леченый, никуда не годится. Давай-ка лучше моего крепачка закурим.
Он достал из кармана защитных летних штанов свернутый в трубку малиновый шелковый потертый кисет, развернул его, и я успел прочитать вышитую на уголке надпись: «Дорогому бойцу от ученицы 6-го класса Лебедянской средней школы».
Мы закурили крепчайшего самосада и долго молчали. Я хотел было спросить, куда он идет с ребенком, какая нужда его гонит в такую распутицу, но он опередил меня вопросом:
– Ты что же, всю войну за баранкой?
– Почти всю.
– На фронте?
– Да.
– Ну, и мне там пришлось, браток, хлебнуть горюшка по ноздри и выше.
Он положил на колени большие темные руки, сгорбился. Я сбоку взглянул на него, и мне стало что-то не по себе… Видали вы когда-нибудь глаза, словно присыпанные пеплом, наполненные такой неизбывной смертной тоской, что в них трудно смотреть? Вот такие глаза были у моего случайного собеседника.