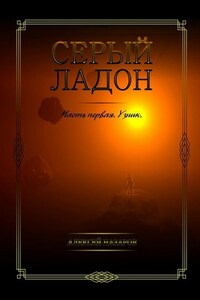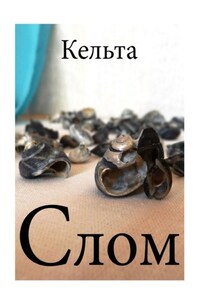Ритке Фёдоровой из п. Золотец 70-х годов ХХ века
Я пишу эти строки пером и чернилами на бумаге, сделанной из волокон растения. В моих покоях приятный сумрак, разрезанный узким столпом света, в котором роятся золотые пылинки. Откинувшись в кресле и взирая на предупорядоченный хаос танцующих частиц мироздания, я забываю себя. И длится время. За окном едва приметно плывёт облако, и я свободен не спешить. Так неспешен путник в вечности. В его пути нет начала, но есть порог, через который должно переступить. И нет конца, но есть очередное окончание.
О том и свидетельствую, ибо находился при окончании мира в семитысячном году по иудейскому упованию. И видел реченное патриархом Левием: «В седьмой же юбилей будет мерзость, коей не могу высказать перед лицом людей, ибо тогда узнают, как творить её. Оттого пленены будут и ограблены, и исчезнет земля, как и само бытие их» (Завещание 12 патриархов, от Левия, гл. XVII).
Заверителями записанного мной по доброму обычаю да будут соименники, друг с другом не знакомые. Один открыл мне душу. Другой – мой нынешний беседчик-прекослов, чей хладный ум и непредвзятость известны миру. К сему и руки приложили:
«Probatum est. Печаткой юности своей удостоверяю: Marcus Annius Verus. Сие кольцо свидетель всех твоих нежданных посещений и споров об ὅλων λόγον, в котором я тогда готов был раствориться. Ошибочность чего и признаю. Во славу Господа, дарующего жизнь».
«Прочитал. Да вроде всё верно, кибер свидетель ;-)».
С чего же начать? С той холодной ночи со звёздами в небе – безучастными ко всему, как снулые рыбы в зимнем пруду? С идущего впереди незнакомца? Марик видел только спину водителя Зил-130, который привёз его туда, – рубчики фуфайки и отвислый хлястик с засаленными, металлически отсвечивающими краями. Потом были пять бетонных ступенек, звон дверной пружины, длинный коридор, устланный пузырившимся линолеумом… Марик помнил это смутно. Он хотел тогда спать, мучимый затянувшейся morbus angelicus – ангельской болезнью, как остроумно называл бессонницу один мой знакомый лекарь. Воспалённый ум, по слову этого эскулапа, куда болезненней, чем воспалённый зуб. Ибо зубную боль можно убаюкать в мокрой от слёз пуховой подушке, а разум бесплотен и неприручаем… Или начать с того, как он вернулся домой, и там было другое небо – с подохшими рыбами? Так он это почувствовал. И увидел, как истаивает в чёрном вакууме сама сбыточность жизни. Пожалуй, тогда и началась его война? Или раньше – на той альпийской каменистой тропе, обагрённой кровью вечника?
Лучше уж начну с самого начала.
Впервые чудноватая способность различать живое-неживое проявилась у Марчика в два с половиной года от роду. В ту пору мама была всегда живая. Ему нравилось трогать её ворсистое платье, приятное на ощупь, и тянуть к полу тяжёлые бархатные занавеси в спальне. Нравился огромный комод с разноцветными флакончиками, расчёсками и фигурками тонконогих зверушек. И перстни на её пальцах. И платиновые волосы, сплетённые в косу, и серо-голубые очи.
Она сама кормила грудью, что отец поминал спустя годы, называя атависткой и почему-то сектанткой. Шутил, конечно. И смешные казусы рассказывал, как мама поначалу паниковала: «У него правое ухо больше, чем левое! Они разные!» Боялась патологий из-за того, что младенец появился на свет через роды, а не доращивался в инкубаторе. «Да он просто отлежал ухо, – успокаивал отец. – Смотри, во сне на подушке оно как листик подворачивается, вот и распухло».
Марк смутно помнил, как ползал по ней настоящей – тёплой и гладкой, в шёлковой сорочке. А потом мама стала неживой. Это произошло сразу после его прогулки по зелёной траве, в которой копошились и гудели уже виденные на комоде тонконогие зверушки. Та же самая мамина рука гладит его по голове, перебирает волосики – но рука другая. Да и рука ли это? Он чувствовал перемену, но виду не подавал. Что-то подсказывало: другие не должны знать, что он знает. В непонятном окружении надо быть осторожным и беречь свои маленькие тайны, которые могут вырасти в спасительные преимущества.
Когда Марчик встал на ножки, он, бывало, ночью прибегал в мамину спальню и залезал к ней под одеяло. Поэтому для него дверь спальни всегда была открыта. Однажды днём мама зашла к себе и долго не выходила. Марчик почувствовал: её там нет. Вообще нет. Он прокрался за дверь и огляделся – мамы и вправду не было. Это было похоже на игру. Ребёнок заглянул под кровать, под комод. Отвёл в сторону край тяжёлой занавеси и заглянул в будуар. Там было темно. Когда он ступил внутрь, помещение осветилось. Слева вдоль стены в воздухе висели мамы. Они были все одинаковые, различались только платья на них – некоторые очень красивые, с блестящими украшениями. Сначала Марчик смотрел на мам, ничего не понимая, а потом с воплем кинулся прочь.
Пришёл он в себя от тряски – отец, сжав его плечи, пытался говорить успокаивающе:
– Марчик, Марчик, не бойся. Всё хорошо. Мы с тобой. Вот мама, вот папа…
Затем ребёнок стал свидетелем скандала. Отец кричал на маму – единственный раз на памяти Марка:
– Ты в своём уме?! Это же так просто – сказать киберу, чтобы запирал дверь, когда тебя нет в комнате!
– Серёж, но как я могла сказать ему, он же был выключен.
– Ты в спальне отключила видеоконтроль? Атавистка! Кибера стесняешься, а лучше бы сына постеснялась! Ну зачем ты эти куклы коллекционируешь?
– Вам, мужикам, легко говорить. Тяп-ляп, слепили дабла в типовом костюме, и никто вам в гэстинге слова не скажет. А нам нужно хоть какой-то наряд подобрать…
– Так внеси эти свои наряды в программу! Зачем даблы-то хранить?
– А макияж? Он много времени занимает.
– Макияж тоже в программу! Какая тебе разница?
– Ну, нет! Помаду и тени надо по живому наносить…
– Какое ещё живое? Это же куклы!
Голоса родителей доносились в детскую через полуоткрытую дверь, и Марчик засыпал с чувством, что всё хорошо. Просто мир так устроен: люди всегда куда-нибудь уходят, оставляя вместо себя кукол. Куда уходят? Неведомо…
Детское сознание парадоксально, но, к счастью, не догматично. Поэтому даже самые нелепые фантазии малыша не имеют вредных последствий – они условны, как игра. Такой игрой была и ненависть к зверушкам с маминого комода. Это они виноваты! Зверушки ожили на травяном поле – и после мама стала неживой.
Как он попал на то поле, в памяти Марчика не отложилось. Сначала был испуг – у комнаты не имелось потолка! Над головой плыли облака и утягивали взгляд за свои пушистые края в самую-самую даль безграничья. Малыш опустился на четвереньки, чтобы туда не смотреть, и ухватился ладошками за зелёные стебли. Так надёжнее, не упадёшь в облака. Теперь трава прятала его по самую макушку. Прямо перед глазами по стеблю вверх карабкался знакомый зверёк. Но почему-то очень маленький – в маминой спальне на комоде они были намного больше, с его кулачок. Марчик тронул пальцем твёрдое, желтоватое в крапинку тельце – игрушка свалилась вниз, а потом снова поползла вверх. Упрямая, как его любимая заводная машинка! Машинка доползла до верхушки стебля и сломалась – из спины что-то выскочило, затрепетало. С изумлением малыш наблюдал, как взлетевшая в воздух жёлтая капля с жужжанием полетела прочь. Вот это игра! Он двинулся на четвереньках вслед за беглянкой и сразу увидел её перед носом, она всё так же ползла по стебельку. И тут же понял, что она другая. Понял не умом, соотнеся расстояние и время, за которое беглянка не могла так быстро вернуться, а просто ощутил её самость. Это была не машинка! А жизнь со своей собственной волей – той сущестью, которая или есть, или её нет.