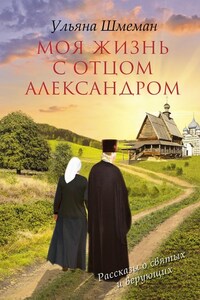«Он видит всё. Не всё к тому готово…»
Не предисловие – скорее взвинченный пульс второго читателя (о первом умолчим). Ну надо же как-то упорядочить в голове эту вроде бы понятную, но куда-то неудержимо скачущую, мгновенно перелётывающую поэтическую оптику, словно поэт какая-то глазастая стрекоза, ловящая (дорисуем лаконичных японцев) над ручьём бытия переменчивые тени и абрисы нашей мимолётности. Нет, всё серьезно, даже слишком – третья книга поэта и художника Софьи РЭМ (вслед за «Сотворением Рима» и «Инверсумом») продолжает упрямое восхождение автора сквозь проживание-изживание всего на те кручи, откуда это всё как на ладони: «Бывают горные породы // Породистей собак и римлян. // Там, задыхаясь кислородом, // Я чувствовал себя всемирным – // А значит, чувствовал хоть что-то», – попутно «заточив своё всемирье» и жёстко ограничив масштаб лирического «я» («только искра на ладони»). Поэт не важен (в принципе). Что же важно?
…Стрекоза глазасто смеётся – никакого сюра, это витает сам метод, изящен, прост и многоуголен: «Я инопланетянин, но очень русский»; «Парадигма меняется. В наше время // Со скалы упавший – не значит лемминг, // Вверх башкой идущий – не значит Ньютон, // А прямоходящий – не точно Дарвин. // Посмотри: загадочен мир и путан». Путаница тоже мнимая, вернее – это вид по горизонтали. Чтобы увидеть, нужны как воздух иные ракурсы, всё-таки жизнь состоит не из одной плотной унавоженности работ-забот. О нет, почвы тут предостаточно, но шустрая стрекозка – ба-а-альшой спец по сравнительному масштабированию сделанного / упущенного во всем диапазоне доступного космоса: «У микробов огромен микропыт, // Но микрополь их равновелик. // Пассажир, зазевавшийся кесарь, // Продолжает зевать свой транзит…». Иногда почти издевается – натурфилософски: «Незамеченный, как вокзал, // Модильяни спрашивал у крота: // Не сама ли себе глаза // Совершенная простота? // Но, не видя его, не рвя // На куски, будто не приемля, // Переваривал крот червя, // Переваривающего землю».
Беглый пульс перемигивается со стрекозкой, пока «тягучая хрупкость блика» не вернёт на землю, где всё, увы, не только не вечно, но и вообще никому никаких гарантий. «Сок земли природен, но жизнь есть сон», и обойдённый вниманием культуры и цивилизации захудалый слонопредок (даман Брюса) мало кому интересен даже в зоопарке… «Мир – притон, даман, и на нём питон».
А как же универсальный безотказный спасатель, непобедимый человек-паук, – лю, которая бовь? «Одна любовь, гремя, достойна палиндрома» – но в целом не для всех утешительно: «моя любовь разрастётся так сильно, // Что уже не заметит объекта»; сплошной «Эпидемий, входящий в подъезд» без внятного выхода («В кино не идёт ни хрена, и мы вновь никуда не идём…») и в целом – «Кто съел всё поле на картине // И кто пожнёт его остатки?»; «Хорошая Беатриче – мёртвая Беатриче». Да ну её к бесу, эту любовь…
Как же тогда быть, если «и гора в своей породе – // Лишь только шахмата в просветах // Меж пальцев рук, и мы в природе – // Ряд чёрно-белых силуэтов, // Как клавиш на клавиатуре…»? Чем спасаться? И зачем? («Зачем нам хлеб, когда метафор и так полным полно? // Зачем идёт кудрявый пахарь и сыплется зерно? // Зачем нам разум, если разум в чудовищах так глух…». ) Поэт не учёный (хотя конкретно этот поэт весьма учёный), не проповедник (хотя конкретно этот поэт вполне верующий, что обязывает), его ответы логичны, но нелинейны, сам же он миру просто свойствен, атрибутивен, посему и деться, спрятаться некуда: «Голова ж подобна нагану, // Пока вдруг невыносимо // Не ощутит, калека, // Одиночество урагана, // Почувствовавшего свою силу // В сравнении с человеком». «Нас всех разглядывает небо из космоса в упор» – вот тебе и стрекозка. Долетались…
Однако атрибутивность поэта миру, изначальная вмешанность в дела бытия дает возможность, «низко наклонившись над колодцем, // В который отклонились облака», «внезапного» увидеть паука в его фантастической для обыденного взгляда связности с мирозданием: «Паук стоял, как наши под Москвою. // Вода стояла, будто у Кремля // В почётном карауле. Над собою // Я чувствовал движенье бытия». «Очень русский» и в самом деле слегка (а может, и не слегка) инопланетен повседневности, как герой поэмы, «удильщик рыбы» для кошек и сторож «водонапорной башни Кус-Кус», как были инопланетны Рубцов и Заболоцкий, Хлебников и Вознесенский… да мало ли кто! Родина однако – упорно глядящая из колодца с застывшим солнцем и облаками «Отечества судьба». И своя тоже, конечно: «Совам должно ухать на уху, // Ковыряя гласные в стиху, // И не нужно жить на берегу – // Я ведь так и так не убегу».
Настоящая инопланетность – это значимость вещей и явлений мироздания как таковых, вне сиюминутных (с т.з. вечности) «правил пользования» ими, та самая значимость, которая открывается нам ближе к смерти… Открывалась бы так поздно, если бы не поэты. «Кто в это время спит, как свойственно природе // Рефлекса, и во сне ускорит шаг. // Раз в десять лет в моём селе проходит // Собрание собак. // Четыре сотни лап ступают ровно, // Как существо одно, то вверх, то вниз, // Как будто водопад ползёт огромно // Сквозь смятый двор и сплющенный карниз».
В голосе настоящего поэта всегда больше звука, чем от земных, пусть даже облагороженных дрязг, – как будто бракосочетаются контрапунктом, проливаются друг в друга земное и небесное, соната и псалом. Это и есть главный источник «инопланетной», и поэтому очень земной и русской связности всего («Так дерево на фотографии // Напоминает об эпохе»). «Связанные вещи мира в величине земного шара» оборачиваются чем-то одновременно космическим и до боли знакомым: «А земляника – дед с корзинкой. // Декабрь. Кладбище. Сугробы. // Так замыкаются нелепо // Любые мысли в каждой фазе… // О как легко сулит нам небо // К земле стремящиеся связи! <…> Живёт кольца с велосипедом // Родство – и выхода не ищет… // Есть связь меня с травой, и с дедом, // И с деревом, и с пепелищем».
И тогда открывается главное… Но дальше, читатель, ты уж как-нибудь сам справишься.