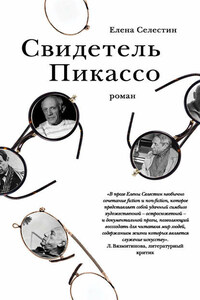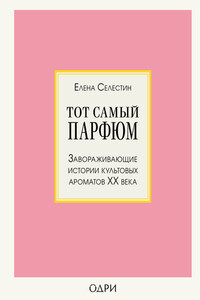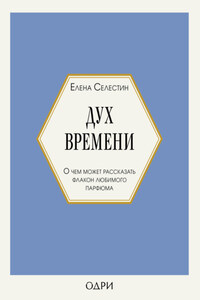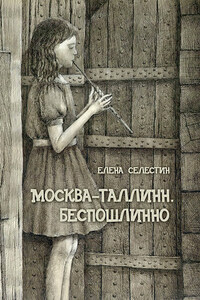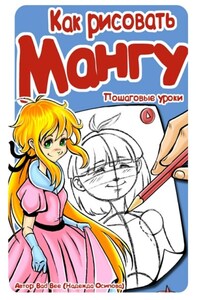Письмо вспышкой озарило пространство, и Сабу было неясно, как теперь жить.
В тот день за завтраком тесть принес потрепанный конверт, бросил на скатерть:
– Тебе, из Парижа. – Тесть хмыкнул и развернул газету.
Инес держала ложку с кашей у лица сына, Саб догадался, что жена презрительно скривила губы. Подпись на конверте, подчеркнутая линией, похожей на древнюю пирогу, была бы видна даже слепому, а Саб пока что наполовину слепой. Подпись Пикассо прекрасна, словно лунный меандр или пыльное облако под копытами табуна. Солнце и сама жизнь разыскали его, Сабартеса, – тоскующего человека, который сначала хотел стать поэтом, затем мечтал написать роман. Не стал никем. Он несколько лет не получал писем от Пабло.
Саб не посмел вскрыть конверт за завтраком; впрочем, в тех очках, что были на нем, он не смог бы ничего прочесть. «Как в этот дом пробралось чудо?» – размышлял он, боясь поднять сияющие глаза от чашки. Почему письмо не затерялось и никто по пути не додумался присвоить ценность, понятную любому? Лишь благодаря необъяснимой щедрости вселенной краски просочились в обшарпанную гостиную.
– Во сколько мы должны быть у врача? – Саб старался говорить обыденным тоном, чтобы жена не сомневалась, что именно для него важно в этот день, как, впрочем, и во все другие. Инес не ответила, лишь попросила сына не плеваться. Малышу передалось настроение Саба, он со смехом стал бить ладонью по столу, посуда позвякивала. Мать ласково придержала руку малыша Сальватора и, повернувшись к мужу, прошипела: «Ну хватит! Полотенце чистое принеси, быстро». Быстро? Она хорошо знает, как трудно Сабу дойти по темному коридору до кухни и что-то там найти.
– Это от Пикассо, Инес! Письмо вернулось из Гватемалы. Наверное, Пабло не знает, что мы снова в Барселоне, хороший будет для него сюрприз! – Ликование предательски проявилось в голосе Саба. Сын тут же расхохотался, громко и заливисто.
– Помоги собрать малыша, – жена давно обращалась с Сабом как со слугой.
В свою спальню он зашел надеть пиджак. Случайно взглянув в зеркало, кроме привычных морщин, уныло висящего носа и испуганных глаз за стеклами очков, Саб увидел, что его губы улыбаются! Даже показалось, что он выглядит лучше, чем обычно, живее. Очень хотелось взглянуть на почтовые штемпели на конверте, но он не успевал; если Инес рассердится, а сын начнет нервничать, то поездка к врачу снова сорвется, как уже случилось неделю назад. Саб покружился по комнате в растерянности, постоял, не в силах расстаться с конвертом, будто конверт был оберегом от сил непонятной природы, портящих его жизнь в последнее время. Сунул письмо под подушку, потом достал и спрятал поглубже под матрас. «А что значит – «в последнее время?», когда оно началось?» – спрашивал он себя, усаживая сына и Инес в такси, отряхивая слетевшую в пыль шляпку жены с вуалеткой цвета припудренной апельсиновой корки. Затем, близоруко сощурившись, смотрел из окна машины на размытые очертания города, обесцвеченного жарой в последние недели августа.
Наверное, его плохие времена – те тридцать лет, что он не был в Париже. Он, Жауме Сабартес, слепнет, беден, никому не интересен, в общем, неудачник, каких еще поискать, Инес права. Ему пятьдесят четыре, живет в доме родителей жены, и продукты семья покупает на деньги тестя. Собственные их сбережения ушли на врачей для сына. Безнадежно. Саб все же заставил себя улыбнуться, пристально думать о светоносном письме: малышу Сальватору сейчас нужны силы, а сын все чувствует, мгновенно отражая и транслируя настроение отца или матери.
Когда они вернулись домой, Инес напоила малыша домашним лимонадом и повела отдыхать.
– Я тебе нужен, дорогая? – услышав «абсолютно нет», Саб быстро оказался в своей комнате. С тех пор как они вернулись из Нью-Йорка, он спал в одиночестве и иногда пытался здесь работать.
Полдень был жарким, в спальне не осталось воздуха, но Саб прикрыл дверь еще плотнее и осторожно освободил разноцветные листы из конверта; бумага пахла табаком, терпентином и чем-то влажным, мускусным. Пальцы плохо слушались, но все же в течение дня Саб стал спокойнее, привык к мысли о письме; утром ведь чувствовал себя хоть и счастливым, но сраженным, будто получил удар в солнечное сплетение. Он медлил, осторожно разглаживая листы на покрывале кровати, снова удивляясь, что недружелюбный мир позволил ему получить сокровище. Сильные очки дали возможность видеть радугу строчек, но Саб все не приступал к чтению, растягивая удовольствие, будто ласкал женщину.
На конверте Пабло коряво нацарапал их гватемальский адрес, он был грубо перечеркнут, и рядом рукой консьержа вписан адрес дома отца Инес в Барселоне. Перекладывая листки на поверхности кровати, глядя на них сверху, как на орнамент, кое-где украшенный завитками, похожими на тугой локон цыганки, Саб снова пугал себя, представляя, как некий злодей по ту или по эту сторону океана соблазнился и завладел письмом.
Больше всего было оранжевых букв, некоторые строки были прописаны фиолетовыми чернилами. Много длинных тире, на полстроки. Не было заглавных букв, но в избытке – восклицательных знаков и росчерков. Подчеркивания в основном были густо-зелеными, кое-где бумага оказалась порванной, будто ребенок нажимал на карандаш со всей силы.
Когда наконец перед глазами стали складываться фразы, они оказались доверчивыми и беззащитными, и Саб неожиданно для себя рассмеялся. Не собираясь принимать на свой счет ласковые обращения, на которые Пабло не поскупился, Саб их торопливо проглотил, но потом несколько раз перечитал, почувствовав лекарственную силу дружеского слова. Последующие страницы были полны жалоб, рассуждений об одиночестве и полной неспособности работать. Пабло с отвращением писал о жене, грубо обзывал ее по-каталонски. Саб усмехнулся: ну кто из парижского окружения Пикассо может понять словарь их юности?
Очевидно, Пабло сочинял послание несколько дней, а может, и недель; на одной странице он издевался над «этой женщиной», на другой грустил как оставленный друзьями подросток, вспоминал: «помнишь ли Саб как мы тогда в «Четырех собаках» и «ты ведь в том году был Париже в последний раз». И еще: «когда попадаешь в жуткое вонючее рыхлое дерьмо некому бросить мяч вспоминаешь о подлинных друзьях они есть на свете – вокруг меня давно уже нет таких людей умных чувствительных к тому же клянусь отдал бы многое чтобы снова обнять тебя стало бы легче в моем отчаянии твой самый преданный друг и слуга Пикассо».