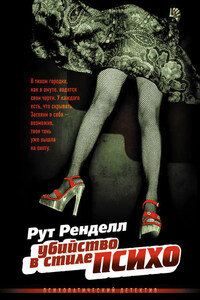Рене Жюльяру
I
С охоты ехали шагом. Мелкий осенний дождик, нудный и промозглый, усиливал терпкий запах взмокших лошадей и ароматы вечернего леса.
Кортеж возглавлял одинокий всадник. Под намокшей красной курткой угадывались костлявые, чуть покатые плечи. На поясе висел охотничий рог.
Головкой хлыста он ласково поглаживал блестящую от воды шею лошади. Высокая гнедая кобыла слегка поводила ушами и аккуратно обходила лужи.
– Давай, Дама Сердца! Давай, моя красавица, – вполголоса сказал всадник.
И вдруг, поджав тонкие губы, затрубил сигнал «Гончие, вперед!».
По времени надо было бы трубить «сбор», но рог он не трогал. Он выводил сигнал губами, с детства наловчившись подражать духовым инструментам. Он не пел, а точно передавал звук трубы, и сигнал замирал в лесной чаще.
Голоса едущих сзади псовых охотников тонули в сырой мгле, и было слышно только, как чавкают по грязи лошадиные копыта да как губы всадника до бесконечности воспроизводят один и тот же сигнал.
Неожиданно всадник насторожился и придержал Даму Сердца. Слева из леса донесся визгливый собачий лай. Собака, которая гонит дичь, так не лает. Так лает собака, которой больно. Склонив голову набок, всадник прислушался.
К нему подъехал совсем юный охотник – судя по одежде, гость.
– Месье Сермюи? – робко спросил он.
– К вашим услугам.
– Вы слышали? Говорят, что скотину…
– Зарубите себе на носу, месье, что собака – не скотина.
Тонкие губы приоткрылись, и коротко подстриженные седоватые усики чуть дернулись.
Юноша, который еще только начал ездить на охоту, залопотал, желая исправить положение:
– Прошу прощения. Хотите, я съезжу… посмотрю?
– На что посмотрите? Я уже достаточно взрослый, месье, чтобы самому заниматься своей командой.
И, бросив гостя, барон де Сермюи перепрыгнул через попавшуюся на пути канаву, пустил лошадь в галоп и ускакал в чащу.
Фалды охотничьей куртки развевались на скаку, лужи вспенивались под копытами. Сжав бока кобылы черными сапогами, он безошибочно задавал ей направление между буками, растущими в опасной близости друг от друга. Миновав вересковую поляну и спустившись по откосу вниз, барон поскакал дальше, пригнувшись, чтобы не задеть нижние ветки, поминутно окатывавшие его водой.
Волнующий, желанный простор приближался. Всадник выскочил на заваленную бревнами прогалину.
На другом ее краю, прижавшись к земле, визжала привязанная к дереву собака из лучшей гончей своры. Ее изо всех сил хлестал арапником человек в ливрее.
Сермюи ринулся через поляну и, на скаку вытащив ногу из стремени, ударил псаря каблуком в плечо, да так, что тот кубарем покатился по земле.
Дама Сердца остановилась. Остолбеневший от неожиданности псарь, не поднимаясь с земли, тупо глядел на свою окровавленную руку, а собака, в ярости порвав поводок, с лаем бросилась на него.
Псарь съежился, лицо его вытянулось от страха. Для собаки он был врагом и теперь лежал – поверженный, пахнущий кровью. Он понимал, что от лучшей из гончих при таких обстоятельствах пощады ждать не придется.
– Фало! Назад! – крикнул всадник. – Назад, я сказал!
Собака еще раз рявкнула, отвела налившиеся кровью глаза и угрюмо забежала за круп кобылы.
Псарь, здоровенный смуглый парень с низким лбом, тяжело поднялся, дрожа от страха и гнева.
– Ваша собака меня укусила! – крикнул он и, не выпуская плетки, показал укушенную руку.
– Потому что ты мерзавец и неряха, – ответил Сермюи.
– Укусила, и уже не в первый раз, – повторил псарь.
Он вскочил, замахнулся плеткой, и тут на миг его глаза встретились с узкими серыми глазами всадника, блестевшими из-под густых бровей.
Дама Сердца отпрянула в сторону. Сермюи быстрым движением выхватил свой арапник. Плеть щелкнула возле самого лица псаря, но тот как стоял, так и остался стоять с поднятой рукой. И тогда он услышал:
– Ты заслужил хорошую порку. Это ты понимаешь? Все, с меня хватит. Вот Бог, а вот порог! Убирайся, и на этот раз никакого прощения тебе не будет!
Всадник повернулся спиной и ускакал обратно в лес, чтобы занять свое место во главе охоты. Фало, с обрывком поводка на шее и со следами арапника на мокрой шкуре, трусил возле копыт Дамы Сердца.
– Эй, Залом![1] – позвал Сермюи.
Первый доезжачий[2] рысью подъехал к нему. Несмотря на преклонный возраст, он ловко и непринужденно держался в седле.
– Я, господин барон!
Доезжачий снял шапку, прижав ее к груди, и дождик принялся барабанить по его лысине.
– Надень шапку, – сказал Сермюи. – Залом, я увольняю твоего сына.
Залом заметил, как по лицу хозяина, от носа к подбородку, пробежала судорога гнева. Доезжачий бросил взгляд на собаку:
– Это из-за Фало, господин барон? Я так и подумал. Всех ваших собак можно узнать по голосу, а уж эту и подавно. Я должен был сразу поехать и вмешаться.
Сермюи не ответил. Он пристально вглядывался в клубы пара, поднимавшегося от шеи кобылы после скачки. Доезжачий так и стоял, прижав к груди шапку.
– Это должно было случиться, – снова заговорил он. – С самого начала, как только Фало появился в своре, у них с Жюлем что-то не заладилось. Я ему всегда говорил, Жюлю, что с собаками нельзя давать промашки. Жаль, потому что работник он дельный.
– Нет, я в нем больше не нуждаюсь, – отрезал Сермюи. – Тем более что он поднял на меня руку.
– Как он посмел! На хозяина!
– Мы оба вели себя как мальчишки. Я его уже не в первый раз укладываю на землю.
Оба на миг замолчали, глядя друг на друга: обитатель замка и обитатель псарни. Они провели вместе целых тридцать лет, которые для хозяина начались в раннем детстве, а для слуги – в лучшую пору жизни.
– Месье всегда был так добр к Жюлю, – сказал Залом.
– Да, но на этот раз хватит. Собаку не привязывают, чтобы наказать.
Залом вдруг резко выпрямился:
– Да, господин барон прав. Это унижение для собаки.
Его мокрые редкие волосы прилипли к голове.
Всадники подъехали к опушке. За лесом начиналась просторная равнина, где ливень чувствовался гораздо сильнее.
– Надень шапку, я сказал.
Залом пошевелил рукой, но шапку не надел.
– Я так полагаю, месье больше не хочет, чтобы Жюль работал на псарне.
– Ни на псарне, ни в замке! Завтра твой сын уедет. Я его больше знать не желаю.
– Ни в замке… – повторил доезжачий. – Простите, господин барон, но Жюль, со всеми его недостатками, – единственное, что у меня осталось… Ну вот… а как же я теперь… – взволнованно закончил он.
И он увидел себя: старого, вдового, как он завтра вечером в одиночестве будет зажигать керосиновую лампу в маленьком домике рядом с псарней. Сына выгнали…