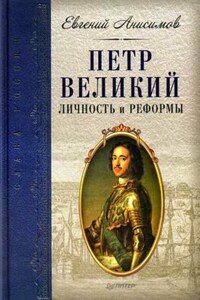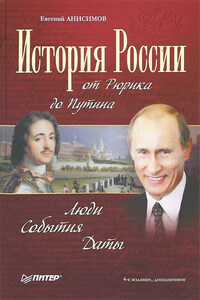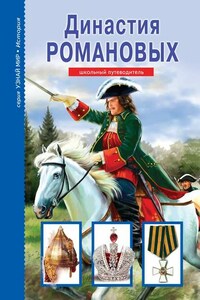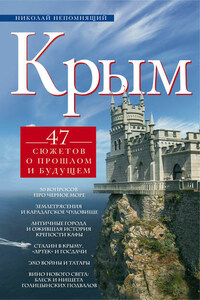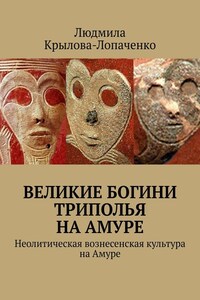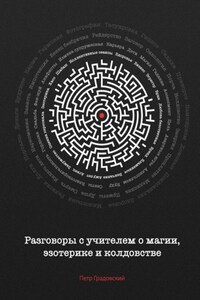В 1747 году при досмотре на таможне вещей возвращавшегося из России в Германию «пуговишного подмастерья» Каспера Шраде в его бауле обнаружилось пять монет с портретом императора Иоанна Антоновича. Подмастерье сразу был арестован и отправлен в Петербург, в Тайную канцелярию. Там его вздернули на дыбу, били кнутом, и он признался, что захотел привезти из России что-нибудь своим братьям, и монеты с профилем юного императора ему показались самым подходящим подарком. По тем временам пуговишник Шраде поступил как настоящий безумец. Это все равно, что теперь на досмотре в Шереметьево предъявить баул, в котором лежат пять гранат Ф-1. Использовать, расплачиваться, принимать и вообще брать в руки монеты с изображением императора, которого по официальной версии вообще не существовало, было категорически запрещено с 1742 года многочисленными манифестами счастливо царствовавшей тогда государыни Елизаветы Петровны. В итоге Шраде поехал не домой, где его тщетно ждали братья, а в Оренбург, с приговором: «На житье вечно». Естественно, что указ обрекал его не на вечную жизнь, а на пожизненную ссылку. Правда, в истории пуговишного подмастерья есть свой подтекст. Он направлялся не просто в Германию, а в Брауншвейг-Люнебургское герцогство, и не исключено, что пытался провезти пять запрещенных рублевиков для того, чтобы продать их с выгодой для себя, но просчитался: всякое упоминание этого чудесного германского герцогства вызывало у русских чиновников озноб. Ведь именно оттуда приехал в Россию отец императора Ивана Антоновича принц Антон-Ульрих, и отношения у России с этим герцогством были самые напряженные – на престоле там сидел родной брат Антона-Ульриха герцог Фердинанд, обеспокоенный судьбой брата, неведомо куда канувшего на просторах России.
Если брауншвейгский пуговишник пострадал по своей глупости или жадности, то множество российских подданных теряло свободу, здоровье и даже жизнь фактически ни за что. Один – канцелярист – поленился пересмотреть свои делопроизводственные бумаги, чтобы вырвать из дела и сжечь, согласно строжайшему манифесту Елизаветы, указы, мемории, записки, письма «с титлом» императора Ивана Антоновича, а товарищ канцеляриста это обнаружил и донес куда следует. Другой человек, псковский целовальник, привез в Петербург две бочки рублевиков – винный сбор, и при сдаче в казначейство среди 3899 монет вдруг обнаружилась одна с профилем царя-младенца. Третий, пьянчужка обыкновенный, расплатился с кабацким сидельцем за чарку водки проклятым рублем; четвертый, библиофил, пожалел книгу с посвящением автора юному государю, которое надлежало вырвать и сжечь, а потом дал ее почитать своему коллеге; пятый, священник, вовремя не сдал завалившуюся за сундук «Форму поминовения членов высочайшей фамилии». Она начиналась страшными словами: «Во первых великих ектениях на вечерни, утрени и литургии: о благочестивейшем, самодержавнейшем, великом государе нашем, императоре Иоанне Антоновиче, о благоверной государыне принцессе Анне и о супруге ее…»[1], а бумагу нашел убиравший горницу псаломщик… А уж о шестом, обычном болтуне, произнесшем прилюдно вслух имя опального императора или его матери, много и говорить не приходится – таких сотнями хватали и волокли в застенок, чтобы задать три роковых вопроса: «С какими намерениями ты эти слова говорил? Кто тебя этим словам подучил? Кто твои сообщники?», а потом сечь плетью, кнутом, резать язык, клеймить и ссылать в Рогервик, Охотск, Нерчинск, Оренбург – да мало ли было в России ударных строек, где требовались работные люди без жалованья!
Если бы Елизавета Петровна приказала написать историю XVIII столетия, то глава о царствовании императрицы Анны Иоанновны кончалась бы датой ее смерти 17 октября 1740 года, а следующая за ней глава о счастливо царствующей государыне Елисавет Петровне начиналась бы датой 25 ноября 1741 года. Что произошло между этими двумя датами, было приказано забыть навсегда.
Собственно говоря, истории этого «пропущенного» года с небольшим, в который уложилось все царствование императора Иоанна III (V) Антоновича и одновременно регентство герцога Бирона и правительницы Анны Леопольдовны, и посвящена эта книга. Историография данной темы совсем невелика. Конечно, ни один историк регентства не может обойтись без незаменимого 21-го тома «Истории России с древнейших времен» С.М. Соловьева[2], и как бы мы ни возмущались (про себя, конечно) вольностью нашего патриарха исторической науки при цитировании источников, а порой – художественно-эпическим изложением материала, все-таки от этого тома, как от печки, танцуют все исследователи. Справедливости ради отметим, что Соловьев был не первым в научной разработке этой темы. Приоритет по праву принадлежит истинному подвижнику – собирателю, публикатору и исследователю «потаенной» истории XVIII века М.И. Семевскому, издателю знаменитой «Русской старины». Его статья в «Отечественных записках» 1866 года и открывает, по существу, скромную историографию темы, ныне (даже с вкраплениями переводов иностранных авторов XVIII–XIX веков) в значительной мере устаревшую[3]. На сегодня наиболее выверенная история царствования Ивана Антоновича изложена в книге И.В. Курукина «Эпоха “дворских бурь”. Очерки политической истории послепетровской России. 1725–1762 гг.» (Рязань, 2003)[4]. Эта книга посвящена не только времени регентства, а охватывает всю историю так называемой «эпохи дворцовых переворотов» и является лучшим исследованием этой темы в историографии как отечественной, так и зарубежной. Автор не стремится (как нередко бывает в науке) построить исследование на уничтожении работ своих предшественников, на вытаскивании и смаковании их вольных и невольных ошибок и неверных прочтений. Соглашаясь с трактовками автора понятия «дворцовый переворот» и с другими его тонкими наблюдениями аналитического, обобщающего характера, резко возражаю против оригинальной по замыслу попытки «вычислить» (и отчасти вычертить в виде графиков) некую «парадигму дворцовых переворотов» и тем самым, на основании комплекса известных фактов и современных исторических и сопредельных исторической науке концепций, выявить главные причины ошеломляющей политической «карусели» у российского трона в послепетровское время. Сама затея выведения некоей типологии, как мне кажется, бесплодна, как и другие псевдотеоретические выкладки на материалах истории. Так, многие выделенные автором причины политической нестабильности и «переворотства» в послепетровское время присутствовали в таком же сочетании и в других эпохах русской истории, но тем не менее не приводили к переворотам. Но они же, в том же сочетании могут «срабатывать» не только в период с 1725 до 1762 года, но и в другие эпохи. И в этом смысле заговор и переворот 29 июня 1174 года, завершившийся свержением и убийством князя Владимирского Андрея Боголюбского, мало чем отличается от заговора и переворота, закончившегося убийством императора Павла I 11 марта 1801 года. Словом, мне кажется, что даже самая тонкая и изящная попытка выявить в истории переворотов некие закономерности и парадигмы заведомо обречена на неудачу, она позволяет нам только тешиться иллюзией познания непознаваемой в принципе истории.